Я никогда не думал о времени серьёзно. Ну, есть часы, есть дедлайны, есть утренний будильник, который всегда не вовремя — вот и всё моё отношение ко времени. Я не из тех, кто мечтает о машинах времени и парадоксах дедушки. Я просто хотел нормально выспаться.
Поэтому, когда всё началось, я даже не сразу понял, что тут вообще что-то не так.
Я ехал в метро. Самый обычный вечер: люди уткнулись в телефоны, кто-то дремлет, кто-то залипает в рекламу на экране. Я сидел, как зомби, и листал ленту, пока глаза не начали слипаться. Последнее, что я помню — еле слышное объявление: "Осторожно, двери закрываются". Всё. Дальше темнота.
Я решил, что просто вырубился. Ну, бывает. Но когда я очнулся, метро уже не было.
Вообще.
Я лежал на жёсткой скамейке. Нос сразу ударил запах чего-то старого: пыль, сырое дерево, чуть-чуть металла. Как в подъезде у бабушки, где ковер на стене и лампочка под потолком в стеклянном плафоне, который никто не мыл лет двадцать.
Я открыл глаза — и первым делом увидел потолок. Белёная, потрескавшаяся штукатурка. Никаких рекламных панелей, никаких ламп дневного света. Просто лампочка с жёлтым светом.
Я сел. Помещение напоминало маленький зал ожидания на старой станции. Металлические скамейки, облезлые стены, витраж с мутным стеклом. В углу — автомат с газировкой, такой, какие я видел только на фотках в интернете: большой, зелёный, с надписью "Газированная вода".
И ещё — тишина. Не как в метро: там всегда кто-то кашляет, шуршит, бормочет. Здесь было так тихо, что слышно, как лампочка иногда потрескивает.
Я встал, пошёл к двери. Обычная тяжёлая дверь с железной ручкой. Тоже вся поцарапанная. Потянул на себя — та с противным скрипом поддалась, и на меня дохнуло холодом.
Снаружи был вечер. Синеватый, с оранжевыми окнами редких домов. Воздух — густой, влажный. Я оказался на улице, которую, честно говоря, в жизни не видел. Ни одной знакомой вывески. Никакого неона, никаких светящихся логотипов доставки или банков. Только простые жёлтые прямоугольники окон и редкие фонари.
Я машинально потянулся за телефоном, достал его из кармана — и замер.
Экран не включился.
Я нажал кнопку ещё раз. Дольше. Подержал. Ноль реакции. Ни вибрации, ни тусклой подсветки — ничего. Как будто в руках у меня не смартфон, а кусок мёртвого пластика.
И вот в этот момент меня реально накрыло. Не из-за телефона — а из-за того, что мне стало вдруг очень, очень тихо. Без уведомлений, без привычного фона. Как будто я вывалился из привычного рыка города куда-то в чужой сон.
— Извините, — сказал я вслух, сам не зная кому.
Голос прозвучал странно, как будто не мой. Даже эхо где-то качнулось.
Я сделал пару шагов вперёд. Посмотрел назад. Здания, как в старых фильмах: серые коробки, кое-где балконы, под ними тёмные проёмы подъездов. Никаких домофонов с камерами. Только грязные кнопки и потёртые ручки.
На стене, у входа в здание, висела доска с названием улицы. Я подошёл ближе, щурясь, пытался разглядеть в тусклом свете фонаря.
"Улица 40 лет…" — дальше облезлая краска, буквы прочитать было сложно.
Под доской — ещё одна, поменьше. Там было написано: "Дом № 7. Построен в 1978 г.".
Я моргнул. Мало ли, старый дом. У нас в городе таких тоже полно. Ладно. Допустим. Но почему так тихо? Где машины? Где реклама, где эти дурацкие самокаты, которые валяются под каждым кустом?
И тут я обратил внимание на улицу.
На проезжей части стояло всего две машины. Одна — коробка с круглыми фарами и странной эмблемой, которую я видел только в старых мемах. Другая — длинная, светлая, с хромированным бампером. Знаете, такие машины, на которых в ретро-фильмах ездят милиционеры и чиновники.
Я стоял и тупо смотрел на них. Потом на небо. Никаких дронов, никакой рекламы, никакого гигантского экрана на доме напротив. Только редкие звёзды и антенны, торчащие на крышах, как ржавые ветки.
— Ладно, — сказал я. — Либо я умер, либо…
Вариант "либо" сам себя додумать не успел. Потому что я заметил щит на остановке. На нём была висящая афиша какого-то концерта. С большим, жирным числом внизу.
"1987".
Я подошёл ближе, вцепился в пластик афиши так, что он жалобно хрустнул.
Время концерта: 5 марта 1987 года.
Меня будто внутри опрокинуло. Я даже сел прямо на корточки перед этим щитом. Лбом почти уткнулся в плёнку с потускневшей фотографией улыбающегося певца, которого я в жизни не видел.
— Нет, — выдохнул я. — Нет-нет-нет.
Но воздух вокруг, дома, редкие машины и этот чёртов автомат с газировкой говорили: да. Очень даже да.
Я встал, отступил и просто пошёл. Без цели. Надо было найти людей. Настоящих, живых людей, у которых в глазах не будет вот этого странного ретро.
Первые люди нашлись через пару кварталов. Невысокая женщина в тёмном пальто тащила сетку с чем-то тяжёлым. На ногах у неё были ботинки, какие, кажется, снова вошли в моду, только тут они были явно не "винтаж", а самые настоящие.
— Простите, — остановил я её. Голос дрогнул. — Какое сегодня число?
Она посмотрела на меня внимательно. Потом на мою куртку, кроссовки, на мой, уже бессмысленный, смартфон в руке.
— Двадцать седьмое февраля, — сказала она. — Восемьдесят седьмого.
Про "восемьдесят седьмого" она сказала так, как будто это очевидно. Как будто я спросил, какого цвета небо.
— Вы себя хорошо чувствуете? — спросила она после паузы.
Я открыл рот, чтобы ответить, и неожиданно услышал собственный смех. Такой нервный, сухой.
— Так себе, — честно сказал я. — Честно говоря, не очень.
Она пошевелила губами, будто собиралась что-то посоветовать, но в итоге только пожала плечами и пошла дальше. Я смотрел ей вслед, пока её спина не растворилась в темноте.
Так у меня появился новый, совершенно идиотский факт: я в 1987-м году.
И я вообще не понимал, зачем.
1. Человек из будущего без будущего
Ночь я провёл как бомж. Сначала долго ходил по улицам, пытаясь поймать хотя бы одну привычную деталь. Какое-нибудь кафе с вайфаем, светящийся логотип, что угодно. Но мир упорно оставался чужим: вместо супермаркетов — серые магазины "Продукты", вместо баров — безликие "Столовые". Витрин почти нет, всё закрыто на тяжёлые решётки.
В итоге я забрался в какой-то тёмный подъезд, нашёл там широкий подоконник и устроился там спать. Сон был рваным, с провалами. Мне снилось, что я снова в своём метро, но состав почему-то деревянный, а объявляет станции живой голос, не электронный. Я просыпался, слышал, как где-то внизу кто-то шаркает по лестнице, и снова засыпал.
Утром я выглядел, наверное, так, как себя чувствовал: помятый, грязноватый, с глазами, которые уже видели слишком много для одного дня.
Я вышел на улицу и впервые по-настоящему увидел город днём. Он был… каким-то честным, что ли. Никакого глянца. Дворы с облупившимися лавочками, дети в странных куртках, собаки без поводков. Люди идут на работу или с работы, несут сумки, пакеты. У кого-то — старые портфели, у кого-то — папки с бумагами.
Я поймал себя на том, что смотрю на всех, как на динозавров. Вот этого мужика через двадцать лет, наверное, уже не будет. Этой девочке — лет семь, значит, в моём времени она могла бы быть моей коллегой по офису, а я просто не знаю.
Смешно. Я в их будущем уже жил, а они обо мне ещё не догадываются. И не узнают никогда, если я отсюда не выберусь.
План был простой, как топор: найти кого-то, кто понимает в странностях. Учёного, чокнутого физика, кого угодно. Но сначала — поесть. Мой желудок уже громко протестовал против всего происходящего.
"Столовая № 3" встретила меня запахом варёной капусты и котлет. Внутри было тепло и жирно. В прямом смысле: воздух был пропитан паром, в котором плавали мельчайшие кусочки еды.
— Молодой человек, вы по талоночке или так? — спросила тётка за раздачей, глядя на меня с подозрением.
Я замялся. Про талоны я знал только по рассказам родителей. Но что-то внутри подсказало: не стоит изображать полного идиота.
— Так, — выдавил я. — Я… только приехал. Гостей кормите?
Она фыркнула, покачала головой, но котлету с пюре всё-таки положила. Я заплатил бумажными рублями, которые — вот это было чудо — лежали у меня в кармане вместо привычных пластиковых карт. Я даже не стал спрашивать, откуда они; просто принял как факт: если уж меня швырнуло в прошлое, то хоть не голым.
Еда была простой, но настолько настоящей, что я чуть не расплакался. Без шуток. В моём времени всё было завёрнуто, переработано, оптимизировано. Тут котлета была просто котлетой: мясо, специи, хлеб. И пюре было не "картофельный продукт", а нормальная, мягкая картошка.
Пока я ел, в голове начал выстраиваться какой-никакой план. Любые новости про странные явления — это газеты. Любые более-менее нестандартные люди — это университеты. Значит, мне в библиотеку и к доскам объявлений. Если уж в этом времени нет интернета, придётся пользоваться тем, что есть.
2. Библиотека и человек в коричневом пиджаке
Городскую библиотеку я нашёл быстро. Большое здание со ступенями, на которых сидели какие-то студенты. Внутри пахло бумагой и чем-то сладковатым. Может, клеем, может, временем — я не различал.
Я прямо с порога почувствовал себя школьником, которого занесло не в тот кабинет. Тишина, шёпот, редкий стук печатной машинки где-то в глубине зала.
— Могу вам помочь? — спросила библиотекарша, женщина лет сорока с аккуратно уложенными волосами и строгим взглядом поверх очков.
— Мне бы… газеты. За последние годы. — Я задумался. — С восемьдесят пятого, если можно.
Она оценила меня взглядом, в котором было больше любопытства, чем подозрения.
— Тема? — сухо уточнила она.
— Наука, — сказал я. — Всё, что связано с… аномалиями. Непонятными явлениями. Может, экспериментами.
Она кивнула куда-то в глубину.
— Краеведческий зал, третий стол слева. С каталога начните.
Каталог был шкафом с бесконечными ящиками, полными карточек. Я провёл пальцами по жёсткому картону и вдруг почувствовал странный восторг. Как будто попал в физическое воплощение поисковика, только движок тут — ты сам.
Часа через два у меня перед носом лежала стопка газет с заметками о чём-то странном. Взрывы на полигонах, необычные помехи в эфире, странные погодные явления. Читал я не всё подряд, а выхватывал фразы, которые казались хоть немного похожими на то, что могло отправить человека в прошлое.
И где-то между заметкой про необычное сияние в небе и статьёй про новые приборы для наблюдения за солнечной активностью я наткнулся на маленькую, с виду ничем не примечательную заметку.
"В институте прикладной теоретической физики прошёл закрытый семинар по вопросам устойчивости временных процессов".
Я перечитал заголовок раз пять. "Устойчивость временных процессов".
В тексте говорилось немного: выступили такие-то учёные, обсуждалось влияние внешних факторов на локальные аномалии, планируется серия экспериментов.
Адрес института был указан. Я переписал его на обратную сторону чеков из столовой. Рука дрожала.
— Интересуетесь будущим науки? — тихо спросил кто-то у меня за спиной.
Я вздрогнул, чуть не рассыпав газеты по полу. Обернулся.
Передо мной стоял мужчина лет пятидесяти пяти, может быть чуть старше. Невысокий, в коричневом пиджаке, с аккуратно подстриженными усами. На носу — очки в тонкой оправе. В руках — пара книг без обложек.
— Простите, — сказал я. — Я не заметил, что…
— Всё в порядке, — он улыбнулся уголком рта. — Просто вы очень целенаправленно ищете. Обычно молодёжь ходит сюда за детективами и фантастикой, а не за "устойчивостью временных процессов".
Я сглотнул.
— А вы… тоже физикой интересуетесь? — осторожно спросил я.
— Можно и так сказать, — он поставил книги на стол и протянул мне руку. — Андрей Петрович.
Я назвал своё имя. Он повторил его, будто примеряя на вкус.
— Этот институт, — кивнул он на газету, — довольно закрытая контора. Но иногда они всё-таки выступают. Если хотите, могу провести. Завтра как раз будет открытая лекция. По крайней мере, так обещали.
Я уставился на него.
— Вы серьёзно?
— Вполне. — Он посмотрел мне прямо в глаза. — Знаете, иногда бывает, что нужные люди встречаются в нужное время в нужном месте. Библиотека — как раз одно из таких мест.
В его голосе не было пафоса. Скорее — привычка к странным совпадениям.
— А вы… работаете там? — спросил я, удерживая внутри вспыхнувшую надежду.
— В каком-то смысле, — уклончиво ответил он. — Прихожу, когда надо. Завтра приходи к библиотеке к десяти, не позже. Вместе доедем.
Он забрал свои книги и уже собирался уходить, но вдруг остановился и, не оборачиваясь, добавил:
— И не оставляй свой телефон на столе. Тут таких вещей ещё не понимают.
Я резко сунул смартфон в карман. Когда поднял глаза, его уже не было.
3. Институт, которого как будто нет
Утро я встретил трезво. Без иллюзий. Ночь в чужом времени научила: если вдруг становится чуть легче, жди, что мир сейчас снова подкинет что-нибудь.
К десяти я уже стоял у входа в библиотеку. Андрей Петрович пришёл ровно через пять минут, как будто вынырнул из воздуха: один шаг — и он уже рядом.
— Готов? — спросил он.
Я кивнул.
Дорога до института заняла минут тридцать на трамвае и ещё десять пешком. Чем дальше мы ехали, тем более странными становились окрестности. Сначала привычные многоэтажки сменились какими-то низкими серыми зданиями, потом начались заборы с колючей проволокой.
Институт выглядел неприметно. Как обычный НИИ: серый корпус, стеклянные двери, маленькая табличка у входа. Ни охраны с автоматами, ни турникетов. Только вахтёр в будке.
— Доброе утро, — сказал Андрей Петрович, показывая удостоверение. — У меня гость.
Вахтёр пару секунд изучал его документ, потом перевёл взгляд на меня.
— Расписаться. — Он сунул мне журнал.
Я расписался каким-то корявым почерком, стараясь не писать дату: хотелось, чтобы она просто не существовала.
Коридоры института были похожи на лабиринт. Белые стены, двери с номерами и табличками. Где-то тикали часы, где-то работали вентиляторы. Мне казалось, что мы идём слишком долго, но Андрей Петрович уверенно поворачивал туда, куда надо.
Наконец мы вошли в небольшую аудиторию. Рядов десять скамеек, старый чёрный щит, мел, пара плакатов с формулами. Человек двадцать уже сидели, кто-то разговаривал вполголоса, кто-то листал тетрадъ.
— Садись, — сказал Андрей Петрович, показывая на свободное место в третьем ряду. — Я скоро.
Он поднялся к кафедре, перебросился парой фраз с худым парнем в очках и исчез за дверью сбоку.
Я сел. Огляделся. Ничего необычного. Обычная аудитория, обычные люди. Только воздух здесь был плотнее, чем в библиотеке. Как будто в нём кто-то тихо шептал формулы.
Минут через пять в аудиторию вошёл лектор. И я чуть не свалился со скамейки.
Это был тот же Андрей Петрович. Только теперь в белом халате. Он встал за кафедру, поправил микрофон и посмотрел на аудиторию как человек, который делает это каждый день.
— Добрый день, — спокойно сказал он. — Тема сегодняшней лекции — локальные временные разрывы и устойчивость макросистем.
Он говорил просто, без заумных слов, хотя формулы, которые он писал на доске, ничего мне не говорили. Я пытался уловить хоть что-то знакомое. Но каждое второе слово звучало как заклинание из чужого языка: "метастабильность", "фазовый переход", "временной градиент".
Я уже начал плыть в этом океане непонимания, когда вдруг услышал фразу, отчётливо знакомую по компьютерным играм, но совершенно не ожидаемую в аудитории института.
— А теперь представим, — сказал Андрей Петрович, — систему, которая уже однажды прожила своё развитие до коллапса.
Я поднял голову.
— Коллапс — это не обязательно взрыв, — продолжил он. — Это может быть деградация, распад структур, потеря связности. В общем случае — конец игры. В прошлом веке такие системы описывались в терминах термодинамики и статистики. Но если смотреть…
Он посмотрел прямо на меня.
…"из вне".
У меня зазвенело в ушах.
— Но, — он чуть улыбнулся, — у систем, у которых есть что-то вроде памяти о собственном коллапсе, появляется интересная возможность. Они могут попытаться перезаписать себя. Вернуться в более раннее устойчивое состояние и пойти другим путём.
Кто-то на задней парте усмехнулся.
— Как в фантастике, Андрей Петрович, — сказал голос. — Перемотка назад, да?
Он пожал плечами.
— Наука — это и есть хорошая фантастика, только с расчётами, — ответил он. — Но да, если говорить совсем простым языком — перемотка. Только есть одна проблема: элементы системы не должны помнить, что с ними уже однажды это случилось. Иначе они начнут повторять те же ошибки или, ещё хуже, заранее пытаться их избежать. И тогда система рассыплется ещё быстрее.
Он снова посмотрел на меня.
— Поэтому память приходится… фильтровать.
Я больше не слышал, что он говорил дальше. Слова проходили мимо. В голове появился чужой холодный голос, который спокойно раскладывал по полочкам:
"Мир прожил своё будущее, дошёл до коллапса. Кто-то, где-то, нашёл способ откатить его назад. Но чтобы это сработало, людям пришлось забыть".
И вот я, человек из того самого коллапсирующего будущего, сижу в аудитории, в прошлом, и слушаю лекцию человека, который явно знает больше, чем говорит.
Я не выдержал. Встал и вышел из аудитории, почти не разбирая дороги. Кто-то что-то крикнул мне вслед, но я не обернулся.
4. Разговор без свидетелей
В коридоре было пусто. Только тусклые лампы и запах краски. Я прислонился к стене, закрыл глаза.
— Тяжело, да? — раздался рядом спокойный голос.
Я дернулся. Андрей Петрович стоял в десяти шагах от меня. Без халата, в своём коричневом пиджаке.
— Как вы… — начал я, оглядываясь. — Вы же там…
— Лекция закончилась, — просто сказал он. — Для тебя.
Я сглотнул. Горло пересохло.
— Кто вы? — спросил я. Без вежливостей, без "простите". Сил на них уже не было.
Он посмотрел на меня спокойно, как врач на пациента, который наконец решился задать правильный вопрос.
— Человек, который однажды уже видел конец, — сказал он. — И который очень не хочет увидеть его ещё раз.
Я засмеялся. Снова этим странным смехом, больше похожим на кашель.
— Конец… чего? Мира? — спросил я. — Вы же понимаете, насколько это…
— Пафосно? — подсказал он. — Понимаю. Но я не про голливудский апокалипсис. Я про распад связности. Про то, когда каждое "я" становится настолько важным, что забывает про "мы". Когда общие правила перестают работать. Когда доверие к любым структурам падает ниже нуля. Когда время, в котором живёшь, становится… вязким. Ты это должен помнить, нет?
Я замолчал. Он говорил про моё время. Про то, где я ещё вчера ругался на очередной сбой в системе, на хаос в новостях, на то, что всё вокруг будто шелушится, как старая краска.
— Вы… были там? — прошептал я.
Он чуть кивнул.
— Давно. Для тебя — давно. Для меня — недавно. В любом случае, этого достаточно, чтобы не забыть.
— Тогда зачем… всё это? — Я развёл руками. — Зачем я здесь? Зачем вы читаете лекции про перемотку времени, если оно уже перемотано?
Он внимательно посмотрел на меня.
— А кто тебе сказал, что перемотка прошла только один раз?
Я не сразу понял.
— Как… это?
Он подошёл ближе. В его глазах не было безумия. Наоборот — какая-то уставшая сосредоточенность.
— Ты думаешь, мы впервые здесь? — тихо спросил он. — Что это первая попытка? Первая коррекция? Первое "давайте всё начнём сначала"?
Слова падали, как камни. Внутри всё сжималось.
— Но… — я пытался найти хоть какой-то рациональный крючок. — Тогда каждый раз всё должно быть… по-другому? Или одинаково?
— Каждый раз мы думаем, что делаем всё по-другому, — устало сказал он. — Но чем больше мы стараемся избежать старых ошибок, тем изощрённее они нас догоняют. Как будто сама структура… — он запнулся, подбирая слово, — …предпочитает падать в одну и ту же яму. Мы меняем детали, декорации, технологии. А в итоге снова приходим к точке, где всё начинает сыпаться.
— Но если так, — я почувствовал, как внутри зарождается злость, — тогда всё это просто… бессмысленно. Зачем вы тогда снова откатывали? Зачем нас всех…
Я запнулся. "Нас" — это кого? Тех, кто жил в будущем? Или тех, кто живёт здесь и сейчас, в этом прошлом?
— Альтернатива — не откатывать, — спокойно напомнил он. — Просто позволить системе окончательно разрушиться. Ты был бы к этому готов?
Я вспомнил свои последние дни в будущем: вечные сбои, тревожные новости, чувство, что вот-вот что-то объявят. Что-то окончательное. Я вспомнил, как ночью лежал и слушал глухой гул города, будто под ним ворочался кто-то огромный и недовольный.
— Нет, — честно сказал я. — Не был.
— Вот и мы не были, — кивнул он. — Поэтому мы откатили. Насколько смогли. Но с каждым разом откатываться всё сложнее. Система сопротивляется. Парадокс в том, что память о коллапсе… цепляется. Даже если ты её чистишь, что-то всё равно просачивается.
Он посмотрел на меня долгим взглядом.
— Например, сны. Дежавю. Необъяснимая тревога. Ощущение, что всё это уже было. Знакомо?
Я кивнул. Медленно.
— Но почему я? — спросил я. — Почему меня швырнуло сюда? Я же не… не учёный. Я вообще простой офисный клоп. Что я могу сделать?
Он усмехнулся. Не зло, скорее — грустно.
— Ты уверен, что выбрался сюда сам? — спросил он. — Что это не… откат внутри отката?
Я не понял.
— Смотри, — он вытащил из кармана сложенный лист бумаги, развернул. На нём была схема: круги, стрелки, какие-то цифры. — Есть большая система — твой мир. Она летит к коллапсу. Мы откатываем её назад. Это первый уровень. Но внутри системы есть подсистемы — люди. Некоторым из них мы даём… скажем так, дополнительный откат. Маленький. Локальный.
Он ткнул пальцем в один из кругов.
— Ты — одна из таких подсистем. Ты провалился не в физическое прошлое мира. Ты провалился в прошлое собственной линии. Но теперь ты видишь больше, чем должен был. Ты помнишь будущее, в котором всё рушилось. Ты находишься в времени, где это будущее ещё не наступило. Ты — расхождение.
У меня зашумело в голове.
— То есть… — слова давались с трудом. — Я сейчас… не в "реальном" восемьдесят седьмом?
— А что для тебя "реально"? — мягко спросил он. — Время — не прямая. Оно больше похоже на клубок, где нитка иногда делает петли. Ты в одной из таких петель. И у тебя есть выбор.
— Какой ещё выбор? — выдохнул я. — Вы же сами говорите: всё равно всё откатывается и повторяется.
Он сложил листок и засунул обратно в карман.
— Мы долго думали, — сказал он, — стоит ли вообще оставлять людям память. Даже частичную. Каждая следующая итерация, где хоть кто-то помнит прошлый коллапс, приближает новый. Но в какой-то момент мы поняли: может быть, без памяти — никак. Может быть, система должна сама осознать, что она уже однажды падала. Не научной статьёй, не лекцией, а… человеческим ощущением.
Он посмотрел мне прямо в глаза.
— Поэтому мы и начали эти локальные откаты. Выдёргиваем отдельных людей из времени, даём им посмотреть на мир под другим углом. Потом возвращаем. Память, конечно, частично сотрётся. Но что-то останется. И, может быть, это "что-то" со временем сложится в новое отношение ко времени. К ответственности. К тому, как люди живут.
— Постойте, — я поднял руку, как на уроке. — Вы говорите "мы". Кто — "мы"?
Он вздохнул.
— Это уже не так важно, — сказал он. — Учёные, инженеры, те, кто выжил в первый раз. Те, кто помнит второй. Те, кто сейчас пытается не допустить третий. Назови нас как хочешь. Совет, комитет, группа. Но если честно…
Он усмехнулся уголком рта.
— Мы тоже часть системы. И тоже заложники её привычек.
5. Возвращение туда, где всё разваливалось
— И что теперь? — спросил я. — Вы меня… вернёте?
— Да, — кивнул он. — Иначе ты начнёшь слишком сильно искажать эту петлю. Ты уже и так видишь больше, чем надо.
— А если я не хочу? — сам удивился своему вопросу.
Он пожал плечами.
— Время — не маршрутка. Из него не выйдешь на остановке по настроению. Но честно — многие не хотят. Там, куда мы отправляем, страшно. И грязно. И больно. Но именно там… настоящее.
— Там — конец, — сказал я.
Он покачал головой.
— Там — точка развилки, — поправил он. — Перегретый, сломанный, но ещё живой мир. И чем больше в нём людей, которые хоть смутно чувствуют, что уже однажды всё рухнуло — тем больше шанс, что на этот раз всё пойдёт иначе.
— Вы же сами говорили, что память ускоряет падение, — напомнил я.
— Если память — только страх, — согласился он. — Но если она ещё и ответственность…
Он снова замолчал, давая мне время.
— А если я там… что-то сделаю не так? — спросил я. — Если именно я и буду тем, кто всё снова запустит?
Уголки его губ дрогнули.
— Это очень человеческий страх, — сказал он. — Думаешь, ты настолько важен?
Я фыркнул.
— Спасибо, — буркнул я.
— Не пойми неправильно, — мягко добавил он. — Каждый важен. Но не каждый — триггер. Ты можешь оказаться тем, кто в последний момент нажмёт не ту кнопку. А можешь — тем, кто отговорит другого это делать. Или просто тем, кто, идя по улице, не бросит окурок в траву, а потушит его и выбросит — и через два часа где-то не вспыхнет пожар, который изменил бы чью-то жизнь.
Он посмотрел на свои руки.
— В прошлой итерации, — тихо сказал он, — я тоже думал, что ничего не решаю. Что от меня не зависит. А потом оказалось, что именно я поставил подпись под одним из протоколов. И именно этот протокол позволил ускорить один проект. А этот проект…
Он не договорил. Но я понял.
— Вы… тот, кто… — начал я.
Он поднял руку.
— Нет "того, кто всё разрушил", — сказал он. — Есть цепочка. И в цепочке нет главного звена. Есть просто звено, которое разогрелось чуть быстрее других. Но сейчас не об этом.
— Тогда о чём?
Он приблизился ещё на шаг. Теперь мы стояли почти вплотную.
— О том, что ты думаешь перед тем, как проснуться, — сказал он. — Потому что всё, что я тебе сейчас говорю, ты не запомнишь как разговор в коридоре. Ты запомнишь это как странный сон. Как куски фраз, которые всплывут в самый неподходящий момент. В метро, в очереди, в очередной бессмысленной встрече. И от того, что ты в эти моменты решишь сделать, зависит гораздо больше, чем от всего этого института вместе взятого.
— Вы правда верите, что это что-то изменит? — спросил я.
— Если бы не верил, — ответил он, — не стоял бы сейчас здесь.
Он положил мне руку на плечо.
— Закрой глаза, — сказал он.
Я послушался.
В темноте снова пришёл запах пыли и металла. Где-то далеко послышался знакомый голос:
"Осторожно, двери закрываются".
6. Всё уже было
Я открыл глаза в метро.
Состав тот же. Люди те же. Кто-то листает ленту, кто-то дремлет, кто-то залипает в рекламу. В наушниках тихо шипит музыка. Телефон в руке ожил, экран светится, как будто и не выключался.
Я чуть не вскочил на месте.
— Спокойно, — сказал я себе. Вслух. Пара человек на меня обернулись, но быстро отвели взгляд, привыкшие к разговаривающим сами с собой.
На табло в вагоне мигало знакомое: название станции, время до следующей.
Время — двадцать три ноль семь. Дата — та самая, с которой всё началось. Как будто ничего и не было.
Я судорожно попытался вспомнить детали. Библиотека. Газеты. Институт. Андрей Петрович. Его глаза. Его слова.
В голове — пустота. Как после сна, который кажется важным, но ускользает, стоит только попробовать его ухватить.
Я закрыл глаза ещё раз. Попробовал не напрягаться, а просто… позволить.
И тут в голове всплыла фраза. Простая, без формул:
"Мир уже однажды разваливался".
За ней — ещё: "Ты не настолько важен, чтобы всё сломать один. Но достаточно важен, чтобы что-то не сломать".
Я открыл глаза. Передо мной — реклама какого-то нового сервиса моментальных кредитов. Внизу мелким шрифтом: "Условия могут измениться".
Я усмехнулся.
— Ещё как, — пробормотал я.
Телефон пискнул уведомлением. В чате коллег обсуждали очередной сбой в системе. Кто-то возмущался, кто-то шутил.
"Опять всё у нас ломается", — написал один.
"Как будто мир к концу идёт", — добавил другой.
Я уже хотел автоматом что-то отшутиться в ответ, но палец завис над клавиатурой. В голове вспыхнуло странное ощущение, как лёгкое дежавю, расползающееся по коже.
Вместо привычной шутки я написал:
"Не мир, а мы. Но это лечится".
Сам не понял, зачем.
В ответ посыпались смайлики, кто-то отправил гифку с плачущим котом. Вроде ничего особенного. Но у меня внутри что-то щёлкнуло, словно маленький переключатель.
Я поднял глаза и поймал взгляд парня напротив. Он был лет на пять младше меня, в худи с каким-то логотипом. В ухе — наушник. Он явно тоже читал что-то на телефоне. И явно тоже устал.
— Нормально? — спросил я его, сам удивляясь себе. Раньше бы я не стал заговаривать с незнакомцами в метро просто так.
Он моргнул.
— Чего? — переспросил он.
— Да так, — пожал я плечами. — День… тяжёлый?
Он усмехнулся краем губ.
— Как обычно, — сказал он. — Такое ощущение, что всё вокруг… — он махнул рукой, не подбирая слова, — …царапается.
Слово было странным, но очень точным. Я кивнул.
— У меня тоже такое бывает, — сказал я. — Слушай, если совсем накроет…
Я достал из кармана бумажку и ручку. Рука сама написала цифры. Номер. Не знаю, чего я хотел: может, просто дать человеку возможность не оставаться одному в очередной раз, когда всё вокруг начнёт трещать.
— Можешь написать, — протянул я бумажку. — Просто так. Без повода.
Он удивился, но взял. Посмотрел на цифры, потом на меня.
— А вы кто? — спросил он. Слово "вы" прозвучало странно: ему, наверное, казалось, что я старше.
Я задумался. Сказать "программист"? "Менеджер"? "Человек, который вроде как уже однажды видел, как всё разваливается"?
— Просто человек, — сказал я. — Тоже из этого… — я поискал слово, но не нашёл лучшего, чем его, — царапающегося мира.
Он кивнул. В его глазах мелькнула странная благодарность, хотя мы почти не поговорили.
Метро дёрнулось, объявили следующую станцию. Я вышел.
На эскалаторе я поймал своё отражение в металлической панели. Обычное лицо. Немного усталое. Чуть более задумчивое, чем обычно.
И в этот момент, глядя на себя, я вдруг вспомнил ещё один кусочек из того сна, который якобы мне приснился.
Андрей Петрович, стоящий в коридоре, говорит:
"Мы начали с малого. С отдельных людей. Но со временем этих людей станет больше. Они начнут встречаться, как случайные искры. В очереди, в метро, в чате. И в какой-то момент они поймут, что это не они попали в прошлое. Это прошлое всё ещё живёт в них".
Я смотрел на своё отражение и вдруг понял, что это и есть тот самый поворот, которого я ждал от мира, а оказался обязан сделать сам.
Не перемотка планеты назад. Не грандиозный эксперимент. А простой, тихий выбор: помнить, даже если это всего лишь ощущение; относиться к времени не как к фону, а как к чему-то живому, что можно или беречь, или тратить вслепую.
И вот тогда меня по-настоящему ударила самая странная мысль.
А что, если никакого "первого" будущего, которое уже рушилось, не было вовсе? Что если вся эта история про откаты — всего лишь способ рассказать нам, что каждая наша ошибка уже когда-то кем-то была прожита? Что каждое "неважно" уже где-то обернулось обвалом? И что всё, что мы называем "будущим", — это просто повторение чужих попыток?
И если так, то…
Тогда тот, кого я видел в институте, — это не учёный из другого времени. Это часть меня, которая уже однажды довела всё до коллапса и теперь, как могла, стучалась изнутри, пока я болтался между сном и реальностью в вагоне метро.
Я остановился на середине эскалатора. Люди сзади недовольно фыркали, обтекали меня по бокам. Но мне было всё равно.
Если это так, то выйдет, что в прошлое я попал не в смысле даты.
Я попал в собственное прошлое, в ту точку, где ещё можно было выбрать, каким человеком я буду в момент, когда мир в очередной раз начнёт трещать по швам.
И настоящий шок был в том, что никакого "будущего, которое уже рушилось", снаружи может и не существовать. Зато внутри — оно происходит прямо сейчас.
Каждый раз, когда я лениво нажимаю "отложить" на будильнике, вместо того чтобы встать и наконец-то доделать важный разговор. Каждый раз, когда я молча пролистываю новости, вместо того чтобы хотя бы спросить у друга, как он справляется. Каждый раз, когда я выбираю не смотреть человеку в глаза, потому что так проще.
Это и есть тот самый коллапс. Маленький, локальный. Но именно из таких коллапсов складывается общий.
Я вздохнул, поправил ремешок рюкзака и пошёл дальше, к выходу.
На улице было сыро и прохладно. Город шумел, мигал, блестел. Где-то над домами вспыхнула реклама нового сериала. В подворотне кто-то курил, громко смеялся. Машины тормозили у пешеходного перехода, кто-то переходил на красный.
Мир ни о чём не подозревал. Или делал вид, что не подозревает.
Я достал телефон, открыл заметки и напечатал одну фразу:
"Если однажды вспомнишь, что будущее уже рушилось — не паникуй. Это значит, что у тебя всё ещё есть шанс сделать вид, что ты тут впервые".
Подумал секунду и исправил:
"…не сделать вид, а жить так, как будто от тебя правда что-то зависит".
Сохранил. Заблокировал экран.
И пошёл домой — в тот мир, который уже когда-то падал, даже если никто, кроме меня, этого не помнит.





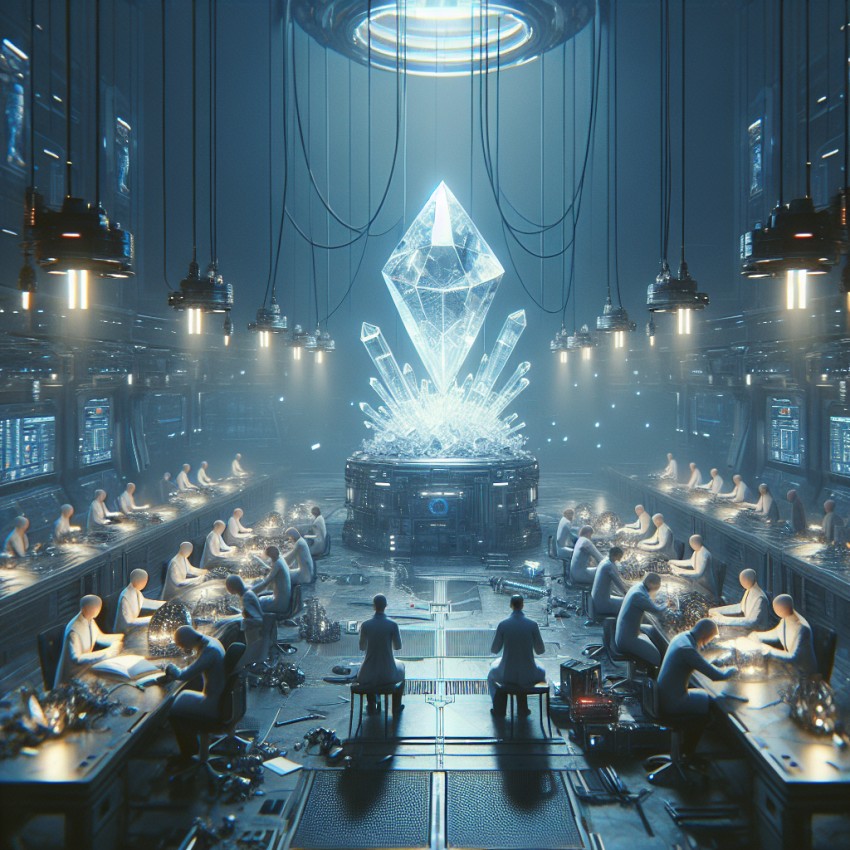

Обсудить