Когда я впервые услышал рычание горы, мне было семь лет. Ночь тогда оттекала по стенам хаты густым, смоляным мраком, и казалось, что сама тьма стучится в ставни лапой. Ветер гнал по небу рваные облака, и между ними медленно, как больной глаз, вспыхивала луна.
Я лежал на жёсткой лавке, слушал, как рядом дышит в темноте мать, как потрескивают в умирающих углях угли, как под крышей шорохом пересыпается лошадиный овёс. И вдруг земля под нами чуть тронулась, будто хата вздохнула, приподнялась и снова осела. Где-то далеко-далеко, из той стороны, где чёрной стеной упиралось в звёзды Горло — наша гора, — потянулся низкий, дрожащий звук.
Он был похож и на гул колокола, и на раскат грома, но в нём было ещё кое-что, от чего кожа на руках покрылась мурашками, хотя я был под одеялом. Будто кто-то очень старый, слишком большой для этого мира, ворочался во сне.
Я зажмурился, уткнулся носом в грубый холст подушки. От неё пахло золью, потом и чем-то нашим, родным, тёплым. Но запах тянулся дальше — через щели, в поле, на скат горы. Я чувствовал мокрую землю, прелую листву, угадывал, как внизу в оврагах шевелится вода. И поверх всего — тонкую, терпкую ниточку дыма. Сухого, как старые кости.
— Мама, — прошептал я. — Это он?
Мать беззвучно перевернулась, матрас под ней жалобно скрипнул. Луна на миг вышла из-за облака и тонкой полосой легла на её лицо. Глаза у неё были открыты.
— Спи, Лиан, — сказала она. Голос у неё был шершавый, будто она много молчала прежде. — Если не смотреть в темноту, она не увидит тебя.
Но я уже смотрел, внутрь себя. Туда, где звук проходил по костям, оседал под сердцем, как тяжёлый камень. И даже ребёнком я понимал: это не гром. Это дышит дракон.
Тогда я ещё не знал, что однажды пойду к нему сам.
Гора, которая шепчет
Годы складывались в меня, как сухие ветки в вязанку. Я рос, вытягивался, ломал голос, стирал в кровь ладони о мотыгу, запоминал вкус пыли на зубах и вкус весенней воды из снега. Мир вокруг был простой: поле, лес, речка, плоское небо, наш дымный посёлок, где все друг друга знали по шагам. И над всем — Горло. Так его называли старики, щурясь на чёрный хребет над лесом, будто гора имела рот и могла проглотить небо.
О драконах говорили вполголоса. Не потому, что боялись, что услышит, — скорее по привычке. Слово «дракон» было, как старый шрам: уже не болит, но пальцы сами на нём задерживаются.
— Раньше, — говорил дед, когда в избе пахло печёной репой и мокрой шерстью, — они сидели на золоте, как куры на яйцах. Горы звенели от их сокровищ. А этот — другой. Этот стерегёт не богатство, а обещание.
Я тогда уже был достаточно взрослым, чтобы задать вопрос, и достаточно ещё ребёнком, чтобы задать его сразу.
— Чьё?
Дед прищурил мутные глаза, в которых плескалась старая зима.
— Чьё-чьё… Больших людей. Тех, которых тут уже нет. Давно было. Но драконы не забывают.
Я представил себе, как существо, больше башни, обнимает крыльями не сундуки, не кучи самоцветов, а одно-единственное слово. Сидит на нём, греет его, как наседка — последнее яйцо. Слово, может, уже давно высохло, растрескалось, превратилось в звук без смысла, а он всё стережёт.
У меня в груди стало тесно. Я давно знал, что обещания — это тяжело. Мать, завязывая мне в детстве на шее мешочек от сглаза, тихо говорила:
— Обещай, что выживешь.
И я кивал, не до конца понимая, как можно такое обещать. Но слово уже лежало на языке, как тёплый камешек, и, когда я его проглотил, оно ушло куда-то глубоко, под рёбра, и чаще всего там молчало. Иногда, когда я лежал ночью без сна, оно всплывало, стало горячим, напоминало о себе.
С годами у людей прибавлялось обещаний, как у деревьев годовых колец. Кто-то обещал вернуться, кто-то — не пить, кто-то — жениться, кто-то — не бить детей. Эти обещания висели в воздухе над посёлком, как невидимые сети. Вечерами, когда туман сползал с луга, я почти чувствовал их вкус на языке — солёный, с привкусом крови и слёз.
Но одна весна принесла с собой другое. Сначала пересох ключ у старого орешника. Потом речка стала тоньше, обнажив склизкие камни. Дожди шли где-то за лесом, и мы слышали их как далёкое, обидное шуршание. Над нашим полем небо висело блеклым стеклом.
С каждой неделей воздух становился суше. Горло проступало в нём чётче, как кость под натянутой кожей. Земля трескалась, и эти трещины напоминали мне раны. Ночами ветер приносил с вершины мёртвый запах пепла.
Люди ходили мрачные. Голос у деда стал тише, будто он разговаривал не с нами, а с кем-то, кто стоял за стеной.
— Это он дышит так, — говорил дед, кивая на гору. — Переворачивается на своём обещании. Слишком много слов нарушено внизу. Трещины идут от наших ртов до его логова.
Однажды ночью я проснулся от того, что мне было нечем дышать. В избе стояла не жара, но воздух был сухой, будто его выжгли изнутри. Пахло пылью, как в житнице летом, когда туда неосторожно запускают факел. Я поспешно сел, опёрся ладонями о грубые доски лавки. Кожа на них стала шероховатой и горячей, чуть обжигала.
Через щель в ставне виднелась гора. На чёрном её боку медленно проползала тусклая огненная змейка — словно кто-то линии проводил по камню снизу вверх. Мне показалось, что я слышу, как гора стонет.
Сердце запрыгало чаще. В голове стало шумно, как в трубе при сильном ветре. Я вдруг ясно, почти физически понял: если ничего не сделать, наш посёлок высохнет, как жаба на солнце. Останутся серые каркасы хат, какие-то закопчённые печи, детские кости в копнах прошлогоднего сена.
И поверх этого — образ дракона, лежащего где-то там, выше облаков, на своём древнем слове, закрыв его собой от ветров и времени. Меня накрыло горячей обидой, как волной.
— Если ты стережёшь обещание, — почти вслух сказал я в пустоту, — значит, умеешь держать слово. А держать — значит, можешь и менять.
Слова эти сами легли на язык. От них стало чуть легче, будто я уже начал подниматься по крутому склону, хотя ещё сидел в душной избе.
Решение пришло не вдруг. Оно зрело во мне, как трескающийся от жары орех. Каждый день я смотрел на то, как умирают грядки, как сереют лица у людей, как у детей суше становятся губы. Мать меньше ела, больше молчала. В глазах её жила осторожная, но такая яркая надежда, когда она смотрела на облака вдали.
И однажды утром, когда из колодца подняли пустое ведро — верёвка была мокрой только на первом локте, дальше сухая, — я понял, что ждать больше нечего.
Подъём
Я собрался просто. Вещи скрипели в руках, как будто знали: их несут туда, куда не возвращаются. В котомку я положил кусок чёрного хлеба, сухую корку сыра, два вяленых яблока — всё, что удалось взять, не вызывая лишних вопросов. Мать сидела на лавке, поправляя на коленях старое, вытянутое одеяло, будто под ним и сейчас спал кто-то маленький.
— К деду схожу, — сказал я, завязывая ремень. Воздух в избе был неподвижным, как вода в стоячем пруду.
Мать подняла глаза. Взгляд у неё стал тяжёлым, словно в нём прибавилось камней.
— К деду… — повторила она. — А гора у нас теперь куда входит — в двор или всё ещё за околицей?
Сердце у меня ухнуло куда-то в живот. Я бы предпочёл, чтобы она кричала. Но она смотрела ровно, спокойно, словно говорила не со мной, а с самой собой, много лет назад.
— Мама…
Она вздохнула, и в этом вздохе было столько усталости, что мне захотелось её нести, как пятилетнюю, на руках.
— Ты всё равно пойдёшь, — сказала она. — Ты весь последний год ходишь к нему ночью по снам. Я слышу, как ты во сне зовёшь кого-то. — Она замолчала, провела ладонью по щеке, будто стирала невидимые следы. — Я тоже когда-то шла. Не дошла. Ты, может, дойдёшь.
Я не знал, что на это ответить. Слова ломались у меня в горле, как сухие веточки.
Мать встала, подошла, коснулась моих плеч. Пальцы у неё были сухие, тёплые.
— Обещай только одно, — тихо сказала она. — Обещай, что…
Она запнулась. Губы у неё дрогнули. Я почти видел, как в горле у неё крутится слово, тяжёлое, острое.
— …что если он потребует чего-то, чего ты дать не можешь, — не дашь. И вернёшься как можешь. Даже без воды. Даже без меня.
Я сглотнул. Сухо скрипнуло в горле.
— Обещаю, — сказал я.
И почувствовал, как ещё один горячий камень ложится внутрь меня, к тому, первому.
Дед встретил меня у порога своей хаты, будто ждал. Глаза его были в красных прожилках, но твёрдые.
— Поздно ты собрался, — сказал он. — Лучше бы раньше, когда река ещё дышала. Но, может, как раз сейчас и надо. У края легче падать.
Он не пытался меня отговорить. Только вынул из сундука старый плащ, который пах прошлогодним дымом и мышами, накинул мне на плечи. Ткань грубо прижалась к шее, как чужие руки.
— На вершине, — сказал он, — не кричи. Он и так слышит каждое слово, что когда-либо было сказано у подножья. Там — голо. Там твои мысли будут, как птицы без кустов. Смотри, каких подпустишь близко.
Он помолчал и добавил, глядя куда-то мимо меня:
— И помни: то, что он стережёт, старше наших полей. Старше нас. Обещания, как камни. Не думай, что можно взять да переложить их, как захочется.
Я кивнул, хотя в груди всё равно шевельнулась тихая, упрямая мысль: если камни давят, их можно откатить.
Дорога к горе начиналась там, где заканчивались привычные запахи. Последние домики посёлка выдохнули за спиной тепло, дым и запах похлёбки. Дальше воздух стал тоньше, прозрачнее. В нём было больше хвои, сырой коры, земли. Я шёл мимо известных с детства кустов, мимо берёзы с раздвоенным стволом, мимо валуна, похожего на огромную собачью голову. Эти вещи всегда стояли, где стояли, и от этого мир казался надёжным, как старая песня.
Но чем дальше я отходил, тем непривычнее становилось даже то, что я видел всегда. Лес будто отодвигался, выпрямлялся. Деревья становились выше, стволы толще, воздух — более вязким. Лучи солнца просеивались сквозь листву узкими, острыми лезвиями света. Они резали тени на полосы.
Где-то вдалеке стукивал дятел, и каждое его «тук» отдавалось в моей груди, будто кто-то забивал туда гвозди.
Потом начался подъём. Сначала пологий, обманчиво лёгкий. Трава здесь была жёсткая, низкая, колючая. Под ногами хрустела мелкая щебёнка. Горло надвигалось сверху, закрывая собой половину неба. Я чувствовал кожей, как с неё сползает прохлада, как из её трещин сочится невидимый, сухой ветер.
Чем выше я поднимался, тем сильнее становился этот ветер. Он был не как обычный — не пах ни морем, ни полем. Он пах выдохнутым пеплом, старой бумагой, высохшей глиной. Когда он ударял в лицо, у меня чуть влажнели глаза, но слёз не было — всё высыхало ещё до того, как успевало упасть.
К полудню спина у меня взмокла под плащом, ноги стали тяжёлыми, как чужие. Мысли замедлились. Они больше не бегали, а ползли, как ящерицы по тёплому камню. Я думал о воде. О том, как она струится по ладони, как липнет к коже прохладой. В горле становилось ещё суше от этих мыслей.
Раз за разом я будто видел перед собой деревню. Мать у колодца, вытягивающую пустое ведро. Деда, сидящего на завалинке, как высохший корень. Детей, вяло толкающих друг друга у порога. И над всем — это тугое, гулкое молчание, когда земля уже не шуршит, не вздыхает — просто лежит.
Из этого молчания и рождалась в груди злость. Она шла горячими толчками, от которых становилось легче поднимать ноги. Я слышал, как с каждым шагом всё громче, ниже ворчит подо мной гора. Не землёй, не камнем — чем-то живым, огромным, укатанным в глубине.
На третьем уступе я остановился. Под ногами был плоский выступ, с которого открывался вид вниз. Посёлок отсюда казался рассыпанным по земле тёмным мусором. Река — тонкой нитью, уже не блестящей, а просто серой. Поле — жёлтым пятном, будто кожей старика.
Я стоял, слушал своё дыхание — рваное, горячее, с горечью в каждом вдохе — и прислушивался к другому, далёкому. К низкому, протяжному выдоху горы, влажному от несуществующего огня. Он заходил в меня через ступни и потряхивал кости.
— Я иду, — выговорил я хрипло, не зная, слышит ли он слова или только намерение в них. — Жди.
И гора ответила: где-то высоко с хрустом обвалился пласт камня, и эхо покатилось вниз, как смех.
Логово
Я не помню, сколько времени провёл в этом подъёме, отталкиваясь от раскалённых, шершавых камней, цепляясь пальцами за трещины, уткнувшись лицом в сухой, пахнущий древностью мох. Время наверху и снизу шло по-разному. В голове у меня слиплись солнечные блики, тени, редкие, как подранки, клочья облаков, прилипших к вершине. Небо стало близким и твёрдым, как крышка, к которой тебя прижимают изнутри.
Первым, что я заметил, когда достиг гребня, был запах. Он ударил в меня, как волна в человека, который не успел вдохнуть. Это был запах не просто дыма и не просто старой пыли. В нём было железо крови, сладковатая затхлость костей, выглаженных временем, кислая нотка давно выдохнутых слов. И что-то ещё — тяжёлое, густое, как мёд, от чего путались мысли.
Потом я увидел его.
Дракон лежал, свернувшись кольцами, как огромная, потрескавшаяся от жары река. Его чешуя была не блестящей, не сверкающей — матовой, цвета старой меди, местами потемневшей, как бронза, которую трогали слишком часто. В глубоких промежутках между пластинами собиралась пыль, как в морщинах старика. Глаза его были закрыты. Из щелей меж зубами лёгкими клубами струился дым — не горячий уже, а тёплый, как дыхание осени.
Он занимал почти весь широкий, выемчатый каменный круг вершины. Вокруг, вместо ожидаемых гор золота или ящиков с самоцветами, лежали… слова.
Я не сразу понял, что это слова. Сначала мне показалось, что это просто обломки чего-то: тонкие, хрупкие, похожие на обугленные листья, на высохшие рыбьи кости, на шелуху от прошлогоднего лука. Они слоями покрывали землю, шуршали под подошвами, когда я осторожно сделал шаг вперёд.
И вдруг — услышал.
Это было, как если бы кто-то одновременно прошептал мне в ухо тысячи фраз. Они не были громкими, но наполняли собой воздух, как рой мошкары. «Вернусь…», «Никогда…», «Клянусь…», «Завтра…», «Только ты…», «Больше не буду…». Одни были уверенные, тяжёлые, как мокрые камни. Другие — лёгкие, пустые, почти прозрачные. Они цеплялись друг за друга, путались, ломались. Некоторые, едва задетые моим шагом, рассыпались в чёрную пыль: «Клянусь… клянусь… кля…»
Меня затошнило. Я понял, что стою по колено в обрывках человеческих обещаний. Они здесь умирали так же, как у нас внизу умирали посевы.
И посреди всего этого — он.
Дракон пошевелился. Не резко — как старик, который просыпается неохотно, разлепляя веки. Каждая чешуйка на нём скрипнула. Воздух дрогнул от тяжести его движения. Глаза его открылись.
Я ожидал увидеть в них огонь. Вместо этого увидел глубину. Цвет у этих глаз был непривычный — не золотой, не красный, а тускло-серый, как зола, в которой ещё не до конца погасли угли. В них жили отражения. Я видел мельком своё лицо — обветренное, потемневшее, с потрескавшимися губами. Видел наши поля, наш посёлок, мать у колодца, деда на завалинке. Видел сотни других лиц, которых не знал, — детские, старческие, злые, испуганные.
Дракон втянул воздух. Его ноздри дрогнули, щербатые края чешуй легонько приподнялись.
— Сухой, — произнёс он, и голос его был похож на звук осыпающегося камня. — Пахнешь жаждой. От неё здесь особенно громко.
Я проглотил лишнюю слюну, которой всё равно не было, и заставил себя сделать ещё один шаг вперёд. Слова под ногами шуршали, как старая трава.
— Я пришёл… — голос предательски сорвался, и я кашлянул, чувствуя, как в горле царапают невидимые занозы. — Я пришёл просить. Для нашего посёлка. Для полей. Для воды.
Дракон слегка повернул голову. Его глаза сузились, не от света — от мысли.
— Просят всегда одно и то же, — сказал он. — Жизни, воды, времени, шанса. — Поверхность его глаз качнулась, как гладь пруда. — Ты знаешь, что я стережёшь?
Я кивнул.
— Обещание, — сказал я. — Древнее. Больших людей.
На уголках его пасти что-то дрогнуло, похожее на усмешку.
— Так вы говорите внизу? «Большие люди». Будто рост имеет значение. — Он медленно распрямил часть своей шеи, и тень от него накрыла меня, как тент. — Кто рассказал тебе?
— Дед.
— Он слышал это от своего деда. А тот — от своего. Сказки сползают по склону, как вода после дождя. По пути они собирают в себя пыль, сор, чужие слова. То, что доходит до вас, — не то, что лежит тут.
Он на миг замолчал, будто прислушиваясь не ко мне даже, а к тому, что шепталось вокруг: «Сделаю… не скажу… потерплю… верь…»
— Что ты хочешь от меня, сухой? — спросил он. — Форму дай своей жажде.
Я сжал руки в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу.
— Дождь, — сказал я. — Воду. Жизнь. Для нас. У нас всё умирает. Если так пойдёт, мы исчезнем. Я…
Слова мешались, толкались, как люди в тесном проходе. Мне хотелось одновременно крикнуть всё и в то же время молчать, чтобы не выдать чего-то лишнего. Внутри пульсировала обида.
— Ты сидишь здесь на чужих словах, — выдохнул я. — Ты стережёшь обещание, которое уже никому не нужно. Те, кто его дал, давно сгнили. Им всё равно. Зачем держать клятву перед мёртвыми, если живые страдают? Сними его. Отпусти. Поменяй. Сделай так, чтобы вода снова пошла. — Я сделал ещё шаг. — Я прошу.
Молчание, повисшее после моих слов, было тяжёлым, как крышка гроба. Дракон не двигался. Только где-то глубоко у него внутри шорохом перевернулся огонь.
— Ты думаешь, я сижу на одном обещании, — наконец заговорил он. — На одной, особенной клятве, как на троне. Так проще. Так понятнее. Сказать: «Там, на горе, есть одно слово, и если его тронуть, всё изменится». Люди любят такие мысли. Они хотят верить, что у бед есть один корень. Откопать, выдернуть — и всё.
Он обвёл взглядом круг вершины. Я тоже посмотрел. Под ногами шевелились, едва заметно, обрывки обещаний. Они натыкались друг на друга, как дохлые мошки в паутине.
— Но всё сложнее, сухой. — В голосе дракона не было ни злости, ни насмешки. Только усталость. — Здесь лежат все обещания, которые вы когда-либо дали себе и друг другу. Которые оборвались. Которые не были выполнены. Которые забыли. Я не стережёшь одно из них. Я стережёшь их вес.
Он наклонился ближе. Воздух вокруг меня стал горячее, но не обжигающим — тягучим, как пар в бане.
— Ты пришёл просить прощения для своих. Прощение — это всегда переложить тяжесть. Снять с одних и… — он на миг задумался, — …положить куда-то ещё. Ты предлагаешь положить её на меня?
Я открыл рот, чтобы возразить, но слова застряли. Он продолжал:
— Когда-то давно здесь договорились. Не «большие люди». Люди и драконы. Мы были в равных долях глупы и упрямы. Вы хотели лёгких дорог, быстрых небес, огня в руках. Мы — вашей памяти, ваших снов. Вы сказали: «Мы готовы отдать всё, лишь бы…» — он замолчал. — Входит ли в это «всё» ваши дети? Ваши поля? Ваши реки? Это вы должны решать. Но клятва уже дана. Она звучала, она впиталась в камни. Я — тот, кто помнит, как она звучала на самом деле.
Я чувствовал, как по спине у меня катится холодный пот, несмотря на жар вокруг.
— Ты хочешь сказать… — прошептал я, — …что наши беды — это цена за ту клятву?
Дракон склонил голову.
— Ваши беды — это последствия всех ваших слов. Не только той. Вы обещали не рубить лес — и рубили. Не травить реку — и травили. Любить — и бросали. Каждый раз тяжесть падала сюда. — Он слегка шевельнул хвостом. Слова под ним шуршали, сминаясь. — Земля под вами подтачивалась. Вода уходила в трещины. А вы говорили: «Это наказание богов. Или дракона». Так проще, чем увидеть, как всё связано.
Я сглотнул, чувствуя, как внутри растёт возмущение, обволакиваемое страхом.
— Но разве нельзя… — голос мой сорвался на хрип, — …начать по-другому? С чистого листа? Если ты стережёшь… это всё, — я неуверенно кивнул на круг слабошевелящихся обрывков, — ты можешь и освободить. Отпустить. Сжечь. Разве не так?
Глаза дракона на миг потемнели, как угли, над которыми подули.
— Могу, — сказал он. — Могу взмахнуть крылом, и всё это — вспыхнет. Могу открыть пасть, вдохнуть, и эти слова рассыплются пеплом, который отнесёт ветер. Могу… — он сделал паузу, — …но тогда вес упадёт в другое место.
— В какое? — прошептал я.
Он смотрел прямо на меня. Сквозь меня. Будто видел всё, что я когда-либо говорил и не сделал. Все «завтра», «когда-нибудь», «простите».
— В тебя, сухой.
Мир качнулся. На миг я подумал, что это гора двинулась, но это было во мне. Слова, сказанные им, упали внутрь, как камни в колодец.
— Во… меня?
— Ты пришёл просить за всех, — сказал дракон мягче. — Ты принёс с собой самое тяжёлое — живую надежду. Она пахнет ярче всего. Я чувствую её, как ты чувствуешь запах хлеба. Ты готов взять на себя то, что хотите скинуть. Даже если ещё не понимаешь этого.
Он помолчал.
— Обещание, которое я стережёшь, — не чьё-то слово наверху. Это возможность. Договориться иначе. Снять вес со всего мира и поместить его в одном месте. В одном… существе. — Он чуть склонил голову. — Ты именно за этим и шёл, сам того не зная.
В животе у меня вспыхнуло липкое, животное чувство — страх. Он не был, как раньше, расплывчатым, тем самым детским страхом темноты. Это был страх выбора. Как стоять на краю обрыва и знать, что прыгнуть — значит уже никогда не вернуться прежним, а не прыгнуть — значит смотреть, как за твоей спиной падают другие.
— Если я… — голос мой дрожал, — …если я соглашусь… что будет?
Дракон не сразу ответил. Его зрачки сузились, превратившись в тонкие, почти чёрные щёлки. Я видел в них крошечные отражения слов вокруг, как если бы каждая обрывочная клятва оставляла на его взгляде след.
— Внизу пойдут дожди, — сказал он просто. — Вода вернётся. Земля вздохнёт. Многие ваши невыполненные обещания иссохнут и исчезнут, как те, что валяются здесь по краю. Людям станет легче дышать. Ваши дети будут смеяться громче. — Он на миг замолчал. — А ты станешь тем, кто будет помнить всё, что было сказано и не сделано. Ты будешь носить этот вес. Твоё тело… — в его голосе прозвучало что-то вроде сожаления, — …ему придётся измениться, чтобы выдержать.
Я почувствовал, как у меня внутри что-то отозвалось на эти слова, как струна.
— Измениться… как? — прошептал я, хотя уже знал ответ, по тому, как на коже начали покалывать незримые точки.
Дракон смотрел на меня долго. В его взгляде не было ни алчности, ни охоты. Только древняя, почти травяная печаль.
— Как я, — сказал он.
Тишина, упавшая после этих двух слов, была чистой, режущей. Все шорохи вокруг будто отступили. Обривки клятв, казалось, тоже затаили дыхание.
В голове у меня разом закричали множество голосов — мой, мамины, дедовы, детские. «Не смей!», «Ты нужен!», «Спаси нас!», «Я боюсь!», «Я должен!». Они толкались, как толпа у узких дверей. В груди стало тесно, больно. Я почувствовал, как глаза наполняются сухим, горячим жжением.
— Если я откажусь? — выговорил я, чувствуя вкус ржавчины на языке.
— Тогда ты уйдёшь вниз, — тихо ответил дракон. — Станешь жить, как жил. Вода, может, ещё чуть уйдёт. Земля ещё потрескается. Кто-то уйдёт раньше, чем должен был. Но мир не рухнет. Он просто станет… тяжелее. Ты будешь знать, что мог сделать иначе. Это знание тоже вес. Только ты будешь носить его один, без моего огня.
Я закрыл глаза. В темноте, под веками, вспыхнули лица. Мать, как она сегодня смотрела на меня — не удерживая и не отпуская. Дед, протягивающий мне пахнущий дымом плащ. Дети, гоняющие по пыли худую, лопнувшую по швам тряпичную куклу. Их смех стал глухим, как если бы его залили глиной.
Я вспомнил, как в детстве обещал сестрёнке — той, что умерла от горячки, когда ей было всего три, — что принесу ей из леса небесный цветок. Она верила, смотрела на меня своими большими, блестящими глазами. Я тогда не пошёл. Испугался темноты. На следующий день она уже не смогла ни улыбнуться, ни попросить. Обещание тогда повисло в воздухе, тяжёлое, липкое. Я много ночей слышал, как оно шипит у самого уха.
Сейчас оно тоже было где-то рядом — среди тысячи других, но я чувствовал его, как занозу под кожей.
Я понял, что это — тот камень, с которого всё началось. И если сейчас я отступлю, он останется во мне навсегда, превратится в яд.
Я открыл глаза.
— Если я соглашусь… — голос мой был хриплым, но ровным, — …я смогу… помнить их, — я кивнул в сторону, туда, где в воображении стоял наш посёлок, — …как сейчас?
Дракон склонил голову набок.
— Память изменится, — честно сказал он. — Она станет глубже и шире. Лиц станет больше, чем ты можешь себе сейчас представить. Их будет столько, сколько звёзд, которых не видно днём. Но те, кто любил тебя, — он произнёс это слово осторожно, как будто пробуя его вкус, — и тех, кого любишь ты, — не исчезнут. Они будут не пятнами в море, а корнями, за которые ты сможешь держаться, когда вода станет глубокой.
Я кивнул. Где-то под ребрами что-то щёлкнуло, как сухая веточка, которую ломают руками.
— Тогда… — я сделал вдох. Воздух был горячим, горьким, пахнул старым дымом и железом. — Я обещаю.
Слова эти слетели с губ легко, почти беззвучно. Но как только они вышли, мир вокруг изменился.
Вес
Сначала я услышал звук. Он был похож на гул далёкого водопада, только наоборот — как будто что-то тяжёлое и огромное не падало вниз, а поднималось снизу ко мне. Это был звук разом сорвавшихся с ветвей плодов, звук тысяч распущенных узлов, звук дыхания, которое задерживали веками и наконец выдохнули.
Потом меня ударило запахами. Они пришли волной, грубой, многослойной. Свежеиспечённый хлеб. Слёзы. Кровь. Дым от первого костра. Сено. Сгнившая трава. Детский пот. Волчья шерсть. Жжёный сахар. Вино. Молоко, прокисшее в забытой чашке. Запахи радости и горя, преступлений и прощений. Они влетали в меня, как стаи птиц, били по внутренностям крыльями.
Я не выдержал и закричал. Горло обожгло, но не огнём — солью. Слёзы, которых не было столько дней, вдруг хлынули из глаз. Они были горячими и тяжёлыми, как расплавленный свинец. Я даже не почувствовал, как упал на колени. Слова под ними рассыпались, хрустя, как лёд в оттепель.
Вселенная сжалась до одного ощущения — тяжести, втекающей в меня. Она входила через кожу, через рот, через глаза, через уши. Каждый невыполненный зарок, каждая не сдержанная клятва, каждое «я буду» и «я никогда», которое так и не стало плотью, — всё это ложилось внутрь, находило свои места, как камни в русле реки.
Я чувствовал, как меняется тело. Сначала это был только дальний зуд под кожей, как если бы в меня залезли тысячи муравьёв и расползались по мышцам. Потом зуд превратился в жар. Кости начали ныть, растягиваясь. Пальцы, казалось, налились свинцом, распухли. Кожа на руках пошла трещинами, из которых не вытекала кровь — вытекал свет. Тусклый, сероватый, как у давних звёзд.
Я услышал, как что-то ломается у меня в спине, в плечах. Звук этот был внутренним, но отчётливым, как когда рвёшь сырую ткань. Меня повело вперёд. Лопатки будто прорвало. Из-под них вылезло что-то холодное, тяжёлое, влажное от собственного рождения.
Я видел мало — слёзы застилали глаза, мир плыл. Но среди расплывающихся линий я заметил, как тень, падающая от меня, растёт, расползается по камню, накрывая собой всё больше обломков обещаний. Тень стала похожа на ту, под которой я стоял совсем недавно — на тень дракона.
Среди этого ужасающего, бесконечного движения было одно, что оставалось спокойным. Голос.
— Дыши, — говорил он тихо. — Не сопротивляйся. Вес ищет дом. Ты сам его позвал.
Я пытался вдохнуть. В горло вошёл не воздух, а пепел. Но в этом пепле были вкусы, от которых сжималось сердце. Чьё-то «вернись живым», чьё-то «я жду», чьё-то «прости», так и не сказанное вслух.
Я хотел оттолкнуть их, крикнуть, что не выдержу, что разорвёт изнутри. Но вместе с новой тяжестью во мне росло и что-то другое. Как будто внутри зажигались маленькие, тусклые огоньки — те самые, что смотрели на меня снизу: глаза матери, деда, детей.
Сквозь шум, треск, вой, которые стояли у меня в ушах, я вдруг услышал ещё один звук. Далёкий, глухой, но такой желанный, что все мышцы у меня на миг расслабились.
Дождь.
Он сначала пришёл как запах — свежий, влажный, с примесью земли. Потом — как лёгкое постукивание по камню, еле слышное сквозь гул. Где-то там, под горой, над нашим полем, над посёлком, над рекой, по сухому, потрескавшемуся миру начали падать первые капли.
Я вдруг увидел это — не глазами, а каким-то новым, хриплым зрением. Внутри меня вскрылась прозрачная, живая река, и по ней покатились картинки. Мать, подставляющая ладони под воду, падающую с серого неба. Дети, визжащие, танцующие под ливнем, раскидывающие руки. Дед, запрокинувший голову, которого струйки дождя впиваются в выцветшую бороду. Земля, жадно пьющая влагу, как раненый воду.
У меня перехватило дух. Не от боли, которая уже стала фоном, — от этой жадной, благодарной радости, которую я чувствовал не как свою, а как сотни чужих.
— Всё, — услышал я где-то рядом голос дракона. — Хватит. Иначе ты сгоришь.
Вес перестал падать. Но тот, что уже оказался во мне, никуда не делся. Он осел, устроился. Я чувствовал его, как чувствуют собственный скелет — обычно не замечая, но зная, что он есть. Я попытался шевельнуть пальцами — и услышал, как по камню свистнул воздух от движения чего-то большого.
Дыхание постепенно выровнялось. Я стоял на четырёх конечностях. Камень под ними был тёплый, шершавый. Тело было чужим и удивительно правильным сразу — как если бы всю жизнь я ходил в тесной обуви и только сейчас впервые ступил босиком.
Я медленно открыл глаза.
Откровение
Мир стал другим. Чётче. Каждый камушек, каждая трещина в скале, каждая пылинка в воздухе — всё было видно так ясно, что казалось, можно сосчитать. Я видел, как тепло поднимается от моего нового тела — волнами, почти цветными. Слышимое тоже изменилось. Я различал, как бьётся сердце у маленькой горной мыши, притаившейся в щели в двадцати шагах. Как шуршит по камню одинокий лист, принесённый ветром.
Я посмотрел на того, кто до этого стоял передо мной. Дракон, у которого я просил, теперь казался мне не таким уж и огромным. Всё равно колоссальным, да. Но во мне не было прежнего трепета. Скорее — странное, тихое узнавание.
В его глазах отражался я. Новый. Чешуя моего тела была тем же цветом — старой меди, местами потемневшей. Где-то на плечах ещё поблёскивали влажные, не до конца сформировавшиеся пластины. Крылья — да, у меня были крылья — расправлялись и складывались, как две чужие, чудом понятные руки.
— Добро пожаловать, — сказал дракон. В его голосе было то, чего я раньше в нём не слышал, — облегчение. — Ты выдержал.
Я попытался ответить. Из горла вырвался низкий, вибрирующий звук. Но вместе с ним вырвались и слова. Они не были произнесены ртом — они просто появились в воздухе, тяжёлые, как камни, но ясные.
— Кто… ты? — спросил я. Сам у себя отозвался этот странный, глубинный голос. Он был похож на меня — того, каким я помнил себя человеком, — и в то же время нет.
Дракон чуть прищурил глаза. Зрачки его на миг расширились, став круглыми, как две ночи.
— Я? — он усмехнулся. — Я — тот, кто когда-то задал тебе тот же вопрос.
Он неторопливо повернул голову, оглядел круг вершины. Обломки обещаний вокруг теперь казались мне ещё меньше, ещё хрупче. Как шелуха от того, что уже не важно.
— Я был там, где ты сейчас, — продолжал он. — Стоял на горе, дрожал, просил. Хотел спасти тех, кого любил. Думал, что совершаю что-то великое. И тоже сказал: «Я обещаю».
Меня пробрало холодом, несмотря на жар внутри.
— То есть…
— Ты — не первый, — мягко произнёс дракон. — И не последний. Здесь всегда был кто-то. Пока есть люди внизу, пока есть их слова, здесь нужен тот, кто будет их держать. Я был таким, как ты. До меня — другой. И до него — ещё. Цепочка тянется так далеко, что даже мне уже сложно увидеть её начало.
Он посмотрел вдаль, туда, где над горами клубились тяжёлые, чёрные от влаги тучи. Дождь там лил всерьёз.
— Когда придёт время, — сказал он тише, — ты тоже встретишь того, кто поднимется сюда. Сухого, уставшего, злого и испуганного. И будешь говорить ему примерно эти же слова. А потом уйдёшь. Куда — я не знаю. Нас никто не учил, что после.
Во мне что-то оборвалось. Я ожидал многого. Ожидал боли, смерти, спасения, даже вечного одиночества. Но не ожидал, что всё это уже было много раз до меня. Что мой «великий выбор» — лишь звено в длинной, безымянной цепи.
Ощущение собственной важности, которого я даже не осознавал, рассыпалось, как сухая глина. На его место пришло другое — странное, тяжёлое и в то же время… успокаивающее. Я не был первым. Я не был особенным. Я просто — следующий.
— А… — я чуть двинул головой, чувствую, как мышцы шеи отзываются мощной, медленной волной, — …те, кого я любил внизу…
— Они будут жить, — сказал дракон. — Кто-то умрёт позже, кто-то раньше — так всегда. Но теперь их смерть перестанет быть следствием ваших слов. Она станет просто… смертью. — Он замолчал, позволяя мне переварить это. — Ты сможешь смотреть на них. Иногда. Водой, ветром, сном. Но не сможешь вмешиваться. Иначе вес вернётся туда.
Я слушал себя. Внутри, среди тяжести чужих клятв, среди новых, не до конца понятных чувств, было что-то вроде тихого, хрупкого стержня. Имя ему я знал — Лиан. Оно не исчезло, не растворилось. Просто стало одним из многих. Как маленькая, но яркая искра в огромной, тёмной печи.
— Почему… — я чувствовал, как вопрос сам пробивается наружу, — …люди внизу не знают, что так было всегда? Почему им кажется, что это первый раз?
Дракон улыбнулся грустно.
— Потому что каждое поколение верит, что их горе — самое первое. Что их жертва — самая большая. Память людей коротка. Так им легче выживать. — Он посмотрел на меня пристальнее. — А ещё потому, что мы… — он чуть качнул головой, — …не говорим им.
— Почему?
Он долго молчал. За это время я успел заметить, как меняется вокруг свет — стало темнее, плотнее. Дождь усиливался. Капли стучали где-то далеко по листве.
— Если бы они знали, — наконец сказал он, — они бы приходили сюда не из любви, а из расчёта. Не потому, что не могут иначе, а потому, что всегда будет кто-то, кто должен. — В его голосе прозвучало лёгкое, почти незаметное раздражение. — А мы… мы стережём не только вес. Мы стережём чистоту этого шага. Чтобы каждый, кто сюда поднимается, делал это так, как ты. Слепо. По-своему.
Я слушал его и чувствовал, как во мне, среди огня и тяжести, зарождается странное, тихое чувство — понимание. Тот, кто стоял передо мной, был не только хранителем чужих слов. Он был таким же мальчишкой когда-то. У него тоже была мать, дед, посёлок. И он тоже думал, что делает это один.
Мы смотрели друг на друга — два существа, одинаковых и разных, связанных одной незримой цепью, натянутой сквозь века. Я вдруг очень ясно увидел, что для него моё появление — не просто облегчение. Это и потеря. Впервые за долгое время он не будет один, но и впервые за долгое время он столкнулся с тем, кем был сам. Это больно.
— Как тебя зовут? — спросил я, почти шёпотом, не ртом, а тем новым, внутренним голосом.
Он моргнул медленно, как будто это имя давно никто не трогал, и оно слиплось с другими.
— Я… — он замолчал, хмурясь. — Здесь у нас имена не очень нужны. — Он на миг прикрыл глаза. — Но внизу… когда я был, как ты… меня звали Тар.
«Тар», — повторил я про себя. Имя это отозвалось чем-то родным. Может, потому, что звучало просто. Так внизу могли звать любого.
— Я запомню, — сказал я.
Он усмехнулся.
— Ты запомнишь намного больше, чем хотел бы, — ответил. — Но спасибо.
Мы ещё какое-то время молчали. Тишина между нами была теперь не пустой, а наполненной. В ней было место и для дождя, и для далёких, уже смягчающихся криков людей внизу, и для шороха оседающих на дно памяти обещаний.
Наконец Тар вздохнул. Вздох его был тяжёлым, но в нём не было больше той изначальной, тянущей усталости. Скорее — что-то вроде готовности.
— Мне пора, — сказал он.
Сердце во мне дрогнуло.
— Куда?
Он посмотрел на горизонт.
— Туда, где наша тяжесть становится чьей-то лёгкостью, — загадочно произнёс он. — Не знаю. Но все, кто были здесь до меня, уходили. Иначе не было бы места тебе.
Он расправил крылья. Они были огромными, испещрёнными рубцами, дырками, чёрными пятнами, где чешуя когда-то обожглась. Но в этих крыльях было что-то красивое — в их усталой, честной силе.
Перед тем как оттолкнуться, он посмотрел на меня в последний раз.
— Стереги, — сказал он. — Не гору. Не слова. То, ради чего ты сюда пришёл на самом деле.
Я хотел спросить: «Что именно?», но уже знал ответ. Не посёлок. Не дождь. Не даже мать. Он имел в виду то, что толкнуло меня раньше всех этих мыслей, задолго до засухи — ту детскую, почти безумную способность говорить «я обещаю» и верить, что можно выдержать.
Я кивнул.
Тар оттолкнулся. Камень под ним дрогнул. Воздух на миг стал густым, вязким, как тесто, когда в него вбивают воду. Его огромная тень скользнула по кругу вершины, по моему телу, по обломкам чужих слов. И в эту секунду я отчётливо почувствовал — часть тяжести, что была у него, ушла. Освободилась. Перетекла.
Он взмыл вверх, тяжело, как птица, давно не летавшая, но через пару взмахов крыльев уверенно пошёл ввысь. Облака приняли его, сомкнулись.
Я остался.
Обещание, которое стережёт дракон
Ночь опускалась на гору неслышно, как рука. Звёзды зажигались одна за другой, и каждая из них теперь отзывалась во мне лёгким, едва уловимым уколом. Внизу шумел дождь — ровно, настойчиво. Вода наполняла трещины, рвы, русла. Я чувствовал, как земля пьёт её, как в людях расправляются плечи.
Подо мной, вокруг, между пластами моего тела шептались слова. Те, что уже были, и новые. Сегодня вечером внизу тоже кто-то обещал — не пить, не бить, вернуться, не уходить. Их обещания поднимались ко мне, как лёгкий, тёплый пар. Я ловил их, пропускал через себя, как через сито, оставляя у себя самое тяжёлое.
Иногда, в этот первый, странный час своего нового существования, мне казалось, что я могу разглядеть там, внизу, каждое окно, каждое лицо. Но изображение было расплывчатым. Важно было не это. Важно было другое — ощущение.
Я чувствовал тонкий, почти невесомый, но прочный, как стальной, канат. Он тянулся от моего сердца к чему-то внизу. К одной маленькой, сухой, уставшей женщине, которая сейчас, возможно, сидела у окна и слушала, как стучит по крыше дождь.
— Я вернусь, — прошептал я. Не зная, слышит ли она. Не зная, возможно ли это вообще. — Я обещаю.
Слова эти были странными теперь. Я понимал, как они тяжёлы, как опасны. Каждое «я вернусь» — это острие, которое может обломаться и упасть сюда. Но в то же время именно в них была вся суть. Без них не было бы смысла ни в горе, ни в мне, ни в этом весе.
Я вдруг ясно понял: дракон на вершине стережёт не древнюю клятву между богами и людьми, не договор между мирами и не тайну спасения. Он стережёт одну-единственную, вечно повторяющуюся фразу, которая каждый раз звучит по-новому.
«Я обещаю».
Обещание — жить, любить, возвращаться, держать слово вопреки страху, несмотря на жажду, боль, засуху и ночь. Обещание, которое каждый раз даёт кто-то маленький, сухой, смертный. И каждый раз мир замирает, глядя, выдержит ли он.
Я стоял на вершине, тяжёлый от чужих слов, и вдруг ощутил, что не один плюнул в ладони и взялся за этот невидимый канат. Где-то далеко, в глубине памяти, жили те, кто стоял здесь до меня. Их было много. И все они, каждый на свой лад, говорили: «Я обещаю».
Я понял, что теперь моя задача — дожить до того дня, когда по этому же склону поднимется ещё один человек. Сухой, злой, отчаянный. Я буду смотреть, как он идёт, как спотыкается, падает, встаёт. Я узнаю в нём себя и всех остальных. И когда он придёт ко мне и скажет: «Я пришёл просить», — я тоже спрошу его, готов ли он взять на себя вес.
Я буду говорить ему о клятвах, о цене, о том, что ничего не начинается впервые. И буду ждать, какое слово он выберет.
И только тогда, когда он скажет своё «я обещаю», я пойму — моя очередь закончилась. Тогда тяжесть, что я ношу, пойдёт дальше. А я… я, может быть, наконец смогу выполнить то самое первое, детское обещание, с которого всё началось. Принести кому-то, давно ушедшему, небесный цветок, о котором мечтали маленькие глаза.
Я закрыл глаза. Ночь стала глубже. Дождь внизу шёл всё плотнее. Я чувствовал, как люди впервые за долгое время спят не от усталости, а от насыщения.
Внутри меня, среди бесчисленных чужих слов, пульсировало моё. Маленькое. Упрямое.
«Я обещаю».
И я понял с ясностью, режущей, как горный воздух: дракон здесь — не тюрьма для этого слова. Он — его дом.
И теперь этим домом стал я.
И это — единственное сокровище, которое действительно стоит того, чтобы его стережёт.





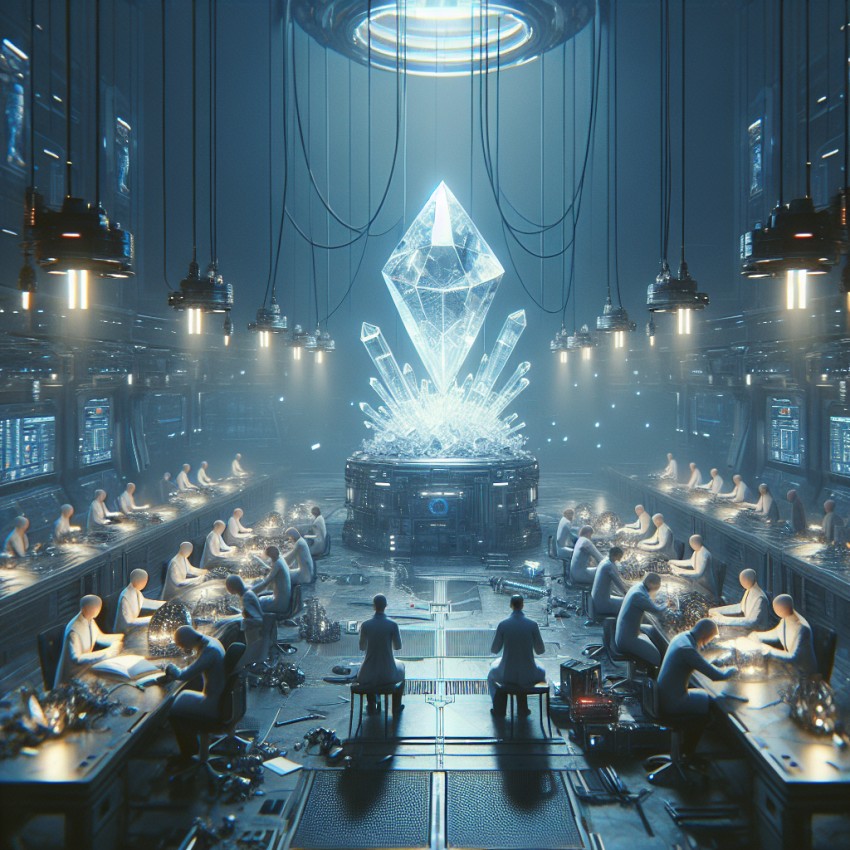

Обсудить