Я впервые увидела его в дыму от подгоревшего зелья.
Густой, едкий, с резким привкусом хвои и железа — он расползался по подземелью, как живой, обволакивая котлы, скамейки и нас. Профессор уже метался вдоль стола, шипел и отчитывал виновника, но я слышала только чужое дыхание рядом — рваное, быстрое, будто кто-то пытался проглотить паническую икоту.
Когда дым разошёлся, я увидела его лицо. Тонкие скулы, блеклые глаза — не серые, не зелёные, а какое-то зыбкое между, как вода в озере перед грозой. Ноздри ещё тряслись от кашля. На мантии — пятна зелья, выеденные до дыр.
— Черников, — прошипел профессор. — Как вы ухитрились перепутать корень асфоделя с корнем лепестковой водоросли?
Я почти физически почувствовала, как имя падает в воздух между нами, тяжёлое, как свинцовая гиря.
Черников.
Слово древнее, как родовые гроты, набитое шёпотом семейных рассказов. Черниковы ломали нам судьбы задолго до того, как я научилась произносить «метла» без лишнего свиста между зубами. О них говорили в нашем доме негромко, как о старой болезни, которая вроде бы отступила, но всё ещё маячит в крови.
Я знала, что где-то в Хогвартсе учится Черников. Знала с того самого лета, когда отцу принесли письмо с печатью школы, а он, пробежав его глазами, хмыкнул:
— Ну вот… Морвенны и Черниковы под одной крышей. Как в старые добрые времена. Только не думай, Элеонора, подходить к ним ближе, чем на длину палочки.
Тогда я ещё смеялась. Хогвартс казался огромным, бесконечным, как лабиринт из сказок. Сотни учеников, сотни лиц. Какова вероятность, что мы вообще встретимся?
Вероятность, как выяснилось, была замешана в одном котле с перепутанными корнями.
— Простите, — пробормотал он, отводя взгляд. Голос был хриплый, как будто дым ещё сидел у него в лёгких. — Я… перепутал флаконы.
Мне показалось, что он чуть дрогнул, когда профессор снова сказал его фамилию. А может, это был просто отблеск тусклого факела на его лице.
— Пять баллов со Слизерина, — рявкнул профессор, обводя взглядом класс. — И после уроков вы оба — он и вы, мисс Морвенн, — останетесь отмывать котлы. Вам, кажется, тоже нужно научиться различать корни по запаху.
Класс зашевелился. Пара человек тихо хихикнула. Я почувствовала на себе взгляд — острый, колючий. Повернулась. Он смотрел на меня так, будто уже знал мою фамилию и точно так же не хотел стоять со мной рядом.
Мы разгребали чужой нагар в тишине. Запах гари въедался в кожу, пальцы немели от холодной воды и шершавых щёток. Только редкий звон железа о железо и плеск мутной жижи нарушали вязкую, липкую тишину подземелья.
В какой-то момент он задел локтем мой котёл. Вода брызнула на каменный пол, и пятно медленно поползло к стоку.
— Извини, — выдохнул он и всё же поднял на меня глаза. — Я не знал, что тебя тоже оставят.
— Я не знала, что ты вообще здесь есть, — ответила я до того, как успела прикусить язык.
Во рту тут же появился вкус меди. Так бывало, когда кто-то в гостиной «случайно» произносил: «Черниковы». Будто кровь сама вспоминает чьи-то старые клятвы.
Он прищурился, и что-то вроде улыбки, неполной, осторожной, дрогнуло в уголке губ.
— Теперь знаешь, Морвенн.
Он произнёс мою фамилию почти так же, как двое взрослых когда-то произносили её друг другу по разные стороны зала, наполненного криком и бьющимся стеклом. Я не помню тот день, я была слишком мала, но дом до сих пор помнил; это было в трещинах на деревянных перилах, в пятне на мраморной лестнице, которое никак не удавалось вывести.
Я опустила взгляд в котёл и начала тереть стенку так яростно, что костяшки пальцев побелели.
— Тебе не обязательно это говорить, — процедила я. — Мы можем просто молчать.
— Молчать легче, — согласился он, облокачиваясь на край своего котла. — Особенно когда разговоры до тебя уже всё решили.
Он сказал это так, будто пытался выдохнуть нечто очень старое и тяжёлое. Я почувствовала, как в подземелье вдруг становится тесно, хотя стены не сдвинулись ни на дюйм.
— Нам нечего решать, — упрямо бросила я. — Всё уже решено.
Он тихо хмыкнул.
— Конечно. Черниковы и Морвенны. Вечная мерзлота.
Слова повисли между нами, как паутина. Я чувствовала, как где-то там, в паутине, шевелятся старые истории, шепчут о дуэлях, разрушенных помолвках, о чьих-то сломанных палочках. Мы оба смотрели в мутную воду на дне котлов и делали вид, что паутины нет.
Когда мы наконец вышли из подземелья, меня ослепил свет факелов в коридоре. Каменные плиты под ногами казались теплее, воздух — чище. Он шёл рядом, чуть позади, и шаги его отдавались в стенах.
У самой лестницы он неожиданно остановился.
— Эй, Морвенн, — тихо окликнул он.
Я обернулась. Его глаза в тусклом свете казались почти чёрными.
— Ты тоже чувствуешь? — спросил он.
— Что? — не поняла я.
Он на секунду замялся, словно решая, стоит ли продолжать, а потом поднял руку и ткнул пальцем куда-то между нами, в воздух.
— Как будто… стена. Прозрачная, но… холодная. От фамилий.
Я вслушалась в себя. В груди действительно стоял холодный комок — не связан ни с подземельем, ни с холодной водой. Словно кто-то действительно воздвиг между нашими ветвями два огромных стеклянных щита, и любое движение приближало к ледяному прикосновению.
— Чувствую, — выдохнула я. Мне не хотелось признавать это, но слова вырвались сами. — Это… семейное.
— Ага, — кивнул он, проводя рукой по невидимому стеклу, будто пытаясь нащупать трещину. — Семейное. Значит, личного нет.
Он развернулся и пошёл вниз по лестнице к подземельям Слизерина. Я осталась смотреть ему вслед, пока зелёный отцветающий свет не спрятал его тень.
Я думала, мы больше не заговорим.
Комната, которая дышала
Осень в Хогвартсе пахла влажным камнем, мокрой листвой у озера и дымом от каминов. Школа дышала этими запахами, как огромный зверь, заглатывающий учеников на девять месяцев и выплёвывающий обратно уже другими.
Мы с ним избегали друг друга. Столовая — длинные столы, скамьи, шум, смех, грохот посуды — давили на виски. Каждый раз, когда я случайно ловила его профиль в толпе слизеринской скамьи, внутри холодный комок напоминал о себе. Будто кто-то сжимал невидимую нить, натянутую между нашими фамилиями.
Но Хогвартс не любит чётко проведённых границ. Он сглаживает углы, стирает линии, как пальцы стирают мел с доски.
В тот вечер я заблудилась. Коридоры, казавшиеся знакомыми, вдруг изогнулись в незнакомые повороты. Портреты, которые обычно дремали, сейчас о чём-то оживлённо спорили, не замечая меня. Камень под ногами был чуть теплее обычного, будто кто-то недавно прошёл здесь с факелом.
В конце коридора, где по идее должна была быть тупиковая стена, я увидела дверь. Узкая, тёмное дерево, латунная ручка, тёплая на вид.
Я была уверена, что раньше её не было.
Внутри пахло пылью, старой бумагой и… дымом. Тот самый, густой, смолистый, со сладковатым привкусом подгоревшего зелья. В комнате стоял один-единственный стол, заставленный котлами всех размеров. Над ними висели аккуратные пучки засушенных трав, а вдоль стен под потолком тянулись полки с банками, где в янтарной жидкости плавали корни, листья, что-то похожее на змеиные хвосты.
Возле стола стоял он.
Мы уставились друг на друга, как два человека, которые одновременно обнаружили, что кто-то залез к ним в голову.
— Ты что здесь делаешь? — спросили мы хором.
А потом оба смутились, словно нас поймали на чём-то запретном.
— Я… — начал он, подходя ближе к одному из котлов. — Я думал о том, как было бы хорошо иметь место, где можно потренироваться с зельями… без профессорских комментариев. Заглянул за угол, а тут…
— Комната, о которой ты думал, — закончила я за него, чувствуя, как кожа на руках покрывается мурашками. — Комната, которая появляется, когда её ищут.
Он кивнул.
— Ты тоже… об этом думала?
Я вспомнила холодное дыхание подземелий, едкий запах дыма, тяжёлые взгляды на спине, когда я шла к своему месту на занятии по Зельеварению. В голове вдруг чётко прозвучала мысль: «Хочу место, где запах дыма принадлежит только моим ошибкам».
— Похоже, да, — прошептала я.
Комната будто бы тихо фыркнула, как довольный кот. Воздух в ней стал плотнее, теплее. Пламя под ближайшим котлом вспыхнуло ярче — хотя я не помню, чтобы кто-то его зажигал.
— Похоже, она решила, что мы… вдвоём, — пробормотал он, с осторожностью трогая край стола.
Я почувствовала, как та самая невидимая стена между нами едва ощутимо вибрирует, будто в ней кто-то провёл ногтем.
— Я могу уйти, — быстро сказала я. — Ты останься. Кажется, она тебя… лучше понимает.
— Не думаю, что это так работает, — устало усмехнулся он. — Хогвартс, кажется, любит над нами шутить. Если мы оба подумали об одном и том же… думаю, он решил, что будет забавно.
Он говорил, а я ловила в воздухе другой запах — не только дыма и трав, но ещё чего-то. Того самого стекла, холодного, разделяющего фамилии. Только теперь оно чуть подтаивало вокруг краёв, как лёд вокруг пламени.
— Давай хотя бы попробуем не сжечь школу, — вздохнул он. — Если уж Комната нас сюда затащила.
— Без перепутанных корней, — кивнула я и вдруг почувствовала, что на губах появляется тень улыбки.
Мы варили зелья, пока за окнами — если они вообще были у этой комнаты — не стемнело. Время здесь текло по-другому; оно размягчалось, как расплавленное стекло, становилось податливым. Я наблюдала за его руками — длинными, ловкими, но чуть нервными. Он резал корни так, будто каждый раз ожидал, что они обидятся.
— Тебе кто-нибудь рассказывал, — спросил он внезапно, не отрывая взгляда от котла, — почему наши семьи…
— Ненавидят друг друга? — договорила я.
Слово «ненавидят» было горьким, как полынь. Оно не совсем подходило к этому мягкому освещению, к пузырящемуся в котле отвару, к тому, как тихо потрескивало пламя.
— Да, — он пожал плечами. — У нас в доме это звучит, как длинная песня без припева. Много имён, дат, паролей… Но суть — "они первые", "нет, это они". И ни одного конкретного… ощущения.
Я задумалась. У нас дома истории о Черниковых были похожи на старые портреты в коридоре: немного выцветшие, но тщательно вычищенные. В каждой истории кто-то из нас был прав, кто-то из них — нет. Но чем старше я становилась, тем сильнее ощущала: края у этих историй стёрлись. Где заканчиваются факты и начинаются оправдания, уже было непонятно.
— Мне рассказывали про проклятую дуэль, — медленно сказала я. — Про то, как один из ваших проклял один из наших древних артефактов. А один из наших ответил… не тем заклинанием. И что якобы с тех пор между нашими фамилиями тянется какой-то темный обет. Всё, к чему мы прикасаемся друг у друга, рано или поздно рушится.
Он фыркнул.
— Забавно. Нам рассказывали про старое соглашение, которое ваши нарушили. Что наши предложили вам… союз. А вы вместо этого… — он замялся, подбирая слово, — взяли и всё сломали. И теперь череда… ответов. Вечный обмен.
Слово «обмен» повисло в тёплом воздухе, как пар над котлом.
— Похоже, никто уже не помнит, с чего всё началось, — сказала я. — Только то, что оно должно продолжаться.
— Как привычка, — кивнул он. — Как запах в доме. Старый, впитавшийся в стены.
Мы помолчали. В котле что-то тихо булькало, на стенах плясали тени от пламени. Комната дышала.
— Знаешь, — сказал он растерянно, — мне странно с тобой говорить. Будто я нарушаю что-то, что подписано кровью задолго до моего рождения. Но при этом… — он вздохнул и потер переносицу, — впервые эта… стена меньше мешает дышать. Это ненормально?
Внутри у меня что-то дернулось. Холодный комок, казалось, на секунду треснул — я почти слышала этот звук.
— Может, ненормально — это как раз продолжать молчать, — ответила я. — Мы же не выбирали эти подписи.
Он посмотрел на меня долго, внимательно, словно пытался прочитать над моей головой фамильный герб и никак не мог разглядеть мелкие буквы.
— Я — Даниил, — негромко сказал он.
Имя прозвучало в комнате, как лёгкий удар колокольчика. Я почувствовала, как от него по воздуху расходятся круги.
— Элеонора, — ответила я.
И в этот момент Комната, кажется, едва заметно выдохнула, словно под нашими именами что-то подписалось само собой.
Клятвы и трещины
Мы стали возвращаться в Комнату. Сначала из любопытства, потом — из упрямства, а потом потому, что всё остальное пространство школы казалось хуже дышащим.
Днём я жила обычной жизнью ученицы: библиотека пахла пылью и чернилами, коридоры — воском натёртого камня, Большой зал — жареной тыквой и гулом голосов. Я смеялась с однокурсниками, переписывалась с родителями, отвечала на их осторожные вопросы о «тех». Лгала, как дышала.
Ночью, в Комнате, я училась дышать по-другому.
Мы варили нелепейшие отвары просто ради того, чтобы смотреть, как меняется цвет, когда капля попадает в кипящую жидкость. Иногда Комната подстраивалась под наши мысли и приносила старые книги по древним заклятиям, свитки с полустёршимися рунами. Иногда, казалось, сердится: если мы слишком много говорили о своих семьях, пламя под котлами становилось беспокойным, дёрганым.
— Ей не нравятся старые истории, — заметил однажды Даниил, глядя, как огонь буквально шепчет, касаясь дна котла язычками. — Она хочет что-то новое.
— Или боится, что мы принесём сюда старые клятвы, — ответила я.
Он поморщился.
— У нас в доме клятва — это слово, от которого у меня кожа зудит. Сколько себя помню, слышу: «Ты должен помнить», «Ты не имеешь права забыть». Я… устал помнить то, чего не видел.
Я закрыла глаза и представила наш фамильный зал — тяжёлые гобелены, запах воска от свечей, портреты, следящие за каждым движением. Они всегда шептались, когда я проходила: «Последняя Морвенн», «На ней всё будет держаться», «Лишь бы не повторила чужих ошибок».
— Знать историю надо, — сказала я, — но… они же не дают нам права… выбрать, какую часть оставить своей.
— Выбрать, — он усмехнулся. — Смешное слово для тех, кто родился с фамилией до имени.
Он сказал это, и в воздухе снова ощутился привкус льда. Тогда я впервые решилась.
— Да какая, по сути, разница, какая у нас фамилия, — выпалила я. — В этой комнате мы…
Я запнулась. Слова "мы одинаковые" застряли в горле, как рыбья кость. Потому что они были слишком простыми для того сложного, что я чувствовала.
— Мы… — помог он, чуть наклонив голову. — Просто… мы?
Я кивнула.
Комната, кажется, одобрительно шуршала где-то в углах.
К зиме мы уже прекрасно ориентировались в её капризах. Иногда она была похожа на лабораторию алхимика, иногда — на библиотеку с бесконечными стеллажами, иногда — на старую гостиную с двумя креслами и догорающим камином. Только одно было неизменно: когда мы входили, где-то между нами на мгновение вспыхивало невидимое пламя, облизывая ту самую стеклянную стену. Я чувствовала его кожей, как человек чувствует грозу ещё до первого грома.
Однажды ночью я проснулась от боли. Резкой, острой, будто тонкое лезвие провели по внутренней стороне рёбер. В комнате в башне было темно; только далёкие звёзды смотрели сквозь окно.
На тумбочке лежало письмо. Я сразу узнала тяжёлую бумагу и тёмно-зелёный воск с гербом нашего рода. От конверта шёл запах лаванды и ещё чего-то металлического, как от старых ключей.
Пальцы дрожали, когда я разворачивала лист. Слова плясали перед глазами:
«Элеонора,
мы чувствуем, что ты приближаешься к тому возрасту, когда наши семейные обязательства начнут для тебя по-настоящему значить. Некоторые связи нельзя игнорировать, даже если они не видны…»
Дальше было про «ответственность рода», про «истории, не имеющие права повториться», про то, как важно «держать дистанцию от тех, кто носит имя, ставшее нам враждебным». В конце — фраза, от которой у меня заломило виски:
«Помни: всё, что возникнет против клятвы, будет разрушено клятвой».
Слова отозвались глухим эхом в груди. Будто что-то старое, забытое, вздохнуло во мне.
Когда я добежала до Комнаты, коридоры были пусты и темны. Комната впустила меня с привычным шорохом. Внутри было темно, только в глубине тлел огонёк.
Даниил уже был там.
Он сидел на полу, привалившись спиной к стене, с бумажным клочком в руках. Лицо — бледное, как пергамент, губы сжаты до белизны.
— Тебе тоже написали? — спросила я, голос сорвался.
Он молча протянул письмо. Почерк — чужой, размашистый, но интонации… до боли знакомые. Те же «обязательства», «память», «не смеешь повторить ошибок предков».
— Они знают, — прошептала я. Слова повисли в теплом воздухе Комнаты, как холодные капли.
Он поднял на меня взгляд. В нём не было ни страха, ни удивления — только какая-то странная, усталая ясность.
— Конечно, знают, — тихо сказал он. — У таких родов, как наши, всё знают раньше, чем мы успеваем подумать.
Я опустилась рядом, чувствуя, как Комната под нами чуть дрожит, реагируя на напряжение.
— Они не могут запретить нам… — начала я и осеклась. Потому что вдруг почувствовала: в воздухе сгущается что-то невидимое. Как в тот момент, когда палочка сама тянется к заклинанию, которое ты ещё не произнёс.
— Могут, — хрипло ответил он. — Есть Старая клятва. Об этом у нас в доме шепчут, когда думают, что я сплю. Клятва между нашими родами… Она как цепь. Любая дружба, любой союз выше определённой… близости…
Он замолчал, сминая письмо так, что суставы побелели.
— Что? — прошептала я, чувствуя, как горло сжимается.
— Разрушается, — выдохнул он. — Не потому, что кто-то нас накажет. А просто… рушится. Заклинание обратного хода. Чем сильнее связь, тем сильнее отдача.
Мы сидели молча. В Комнате стало так тихо, что я слышала, как в моих ушах шумит кровь. Где-то далеко, очень далеко, за стенами Хогвартса, два старых дома, обвитые плющом, кажется, тоже затаили дыхание.
— Значит, нам нужно… — начала я, но он перебил, голос вдруг стал твёрдым.
— Ничего нам не нужно. Они хотят, чтобы мы боялись даже произносить нужные слова. Чтобы мы выбирали между их клятвами и… — он запнулся, но всё же договорил, — и собой.
В его голосе была злость — не молодая, вспыльчивая, а какая-то застарелая, как если бы она передавалась по крови.
— Но если клятва реальная… — я посмотрела на его руки, сжатые в кулаки. — Она может нас разбить.
Он усмехнулся. Усмешка вышла кривой.
— А если мы уже разбиты по умолчанию? — спросил он. — Мы родились с трещинами по диагонали. Они просто хотят, чтобы мы не пробовали складывать куски заново.
Я закрыла глаза. Перед внутренним взором всплыла странная картина: два старых герба, треснувших пополам, и тонкая золотая нить, медленно протягивающаяся между ними, скрепляющая края. Нить дрожала, над ней уже поднимались чьи-то холодные руки, чтобы оборвать её.
— Что ты предлагаешь? — спросила я.
— Я не знаю, — честно ответил он. — Но я знаю, что сегодня вечером мне впервые страшно не за то, что подумают обо мне мои, а за то, что станется с тобой.
Слова ударили в грудь, как заклинание. Вдруг стало очень трудно дышать.
— Странный ты, Черников, — попыталась я отшутиться, но голос предательски дрогнул. — Бояться за врага рода…
— Я боюсь за… Элеонору, — перебил он тихо.
В этот момент Комната вспыхнула.
Не так, как обычно — мягким светом от камина или ровными линиями факелов. Нет. Свет хлынул сразу отовсюду, ослепляющий, белый, как молния. Воздух загустел, запахло озоном и чем-то ещё — старой магией, древней, как своды замка.
Я почувствовала, как та самая невидимая стена между нами трескается. Реально, звуково. Грохот трещин отозвался во всём теле. На секунду мне показалось, что ломаются не только какие-то абстрактные преграды, но и мои кости.
— Что ты сделал? — прошипела я, не в силах открыть глаза.
— Я… сказал то, чего боятся все наши предки, — прошептал он. Его голос тоже дрожал. — Назвал тебя не фамилией.
Грохот усилился. Вспышка света достигла какого-то пика и… оборвалась.
В Комнате снова стало темно. Только где-то вдали мерцал крошечный огонёк — как тлеющий уголёк в погасшем камине.
Я медленно открыла глаза. Всё плыло, как после слишком сильного заклинания. Даниил сидел напротив, бледный, как мел, но живой. Его глаза — сейчас совершенно чёрные от расширившихся зрачков — смотрели на меня с тем же недоумением, что и мои на него.
Между нами не было ничего. Я не чувствовала ни стены, ни холода, ни льда. Только пустоту. А пустота в этом случае была странно… тёплой.
— Кажется, — тихо сказала я, — мы что-то сломали.
— Или что-то… начали, — так же тихо ответил он.
Память, которой не должно быть
После той ночи всё стало другим.
Мы по-прежнему пересекались в коридорах и делали вид, что не замечаем друг друга. По-прежнему сидели за разными столами в Большом зале. По-прежнему писали родителям выверенные, осторожные письма.
Но между строк этих писем теперь что-то скрипело. Старая клятва, которой не нравилось, что в нас появилось то, чего в ней не было предусмотрено.
Иногда, сидя в Комнате, я чувствовала странные отголоски — будто кто-то шепчет прямо в кости: «Остановись», «Вернись», «Так не должно быть». Шёпот был безликим, но в нём было сразу сотни голосов. Все те, кто когда-то старательно подновлял эту цепь.
— Ты тоже это слышишь? — спросила я как-то, когда мы в очередной раз сидели в старых креслах у камина, и Комната на этот раз была похожа на забытый кабинет с пыльными полками.
— Да, — признался он, нервно перебиравший книги на подлокотнике. — Только у меня это ещё и… снится. Сны, где я иду к тебе, а к каждому шагу прикована гиря. Или где мы говорим, а изо рта вместо слов сыплется пепел.
Слова "пепел" и "дым" стали для нас чем-то вроде личного кода. Мы шутили над ними, чтобы не дать им слишком большого веса. Но ночью, когда я возвращалась в свою башню, я всё чаще ловила себя на том, что вглядываюсь в потолок и думаю: "Если завтра всё это исчезнет, я хоть запомню, как пахла Комната, пока мы были в ней?"
В один из вечеров зима внезапно превратилась в весну. Я заметила это по тому, как изменился запах камня у озера: вместо влажной плесени в воздухе появилось что-то зелёное, терпкое. Ветви деревьев ещё были голыми, но где-то в них уже тихо трещала будущая листва.
Мы сидели на краю пирса, не в Комнате впервые за долгое время. Озеро было тёмным, гладким. С той стороны, где обрыв, поднимался туман.
— Странно, — сказал Даниил, разглядывая свои ботинки. — На улице я почему-то чувствую наши фамилии сильнее.
— Потому что Комната нас от них прятала, — ответила я. Ветер трепал края мантии, касался кожи холодными пальцами. — А здесь у нас нет защитного купола.
— Но и у клятвы нет стены, — возразил он. — Если она существует… она везде.
Я подняла глаза к замку. Хогвартс молча смотрел на нас тысячами окон. Где-то там, за сводами, спрятаны древние свитки, книги, портреты тех, кто подписывал самые первые клятвы.
— А ты никогда не думал… — начала я и осеклась.
— О чём? — он повернул голову.
— Что если… клятвы — это просто… очень сильная форма привычки? — выдохнула я. — Настолько сильная, что стала заклинанием. И чем больше мы о ней думаем, тем сильнее делаем её.
Он смотрел на меня долго, потом тихо усмехнулся.
— Звучит, как то, что мог бы сказать Гриффиндорскому психологу какой-нибудь очень смелый Равенкловец, — проговорил он. — У нас в доме за такие мысли…
Он не договорил, но я и так знала. За такие мысли у нас в обоих домах долго и пристально смотрели бы в глаза, пытаясь понять, кто нас "испортил".
— Может, мы оба слишком много думаем, — попыталась я сгладить. — Другие просто… не задают вопросов.
— Может, — согласился он. — Но мне нравится, что ты задаёшь вопросы.
Я отвернулась к озеру, потому что чувствовала, как щеки заливает жар. Ветер пах чем-то новым, и этот запах был страшнее всех старых историй вместе взятых.
В ту ночь я уснула с ощущением, будто балансирую на хрупком мосту над пропастью. И впервые мне было не так страшно упасть, как страшно… не дойти до конца.
Конец пришёл сам.
В начале лета в школу прибыли родители. Официально — на очередной торжественный приём. Неофициально — для того, чтобы увидеть, во что мы с Даниилом превратились за этот год.
Я почувствовала их присутствие задолго до того, как глава рода вошёл в Большой зал. Воздух сгустился, как перед грозой. Запах лаванды и металла отписанных писем вдруг стал осязаемым.
— Элеонора, — отец наклонился ко мне после приветственной речи директора. — Мы хотим, чтобы ты познакомилась с одним юношей. Он… достойный представитель одной старой семьи. И, главное, не той.
Слово "той" прозвучало, как плевок в суп. Я невольно скосила глаза к слизеринскому столу. На мгновение наши взгляды с Даниилом встретились. Его рядом тоже кто-то сидел — мужчина с таким же разрезом глаз, только более жёстким. Руки мужчины лежали на столе, как две тяжёлые перчатки из железа.
В тот вечер я не пошла в Комнату. Коридоры казались слишком заполненными чужими голосами. Стены впитывали разговоры, шёпот, слишком громкие смехи. Я пряталась в своей башне, пока за окном медленно гасли огни.
Письмо я нашла утром.
Оно было не на фамильном пергаменте. Обычный лист из ученической тетради, надорванный с края. Почерк — знакомый, чуть наклонённый.
«Элеонора,
Комната сегодня позвала меня одна. Я не могу не прийти. Если ты решишь не идти — я пойму. Но мне кажется, что если мы дадим им право закончить нашу историю за нас… мы уже проиграли. Я не хочу, чтобы единственным, что останется от нас, были чужие рассказы о "ещё одной несостоявшейся попытке".
Если ты придёшь — значит, мы выбрали сами. Если нет — значит, выбрали они.
Твой…
Д."
Слово после «твой» он не дописал. И слава Мерлину. Я не уверена, выдержало бы это слово то, что случилось потом.
Комната в тот день была голой.
Никаких полок, никаких котлов, никаких кресел. Только четыре стены, гладкие, как внутренняя поверхность яйца, и потолок, откуда лился ровный белый свет.
Даниил стоял посреди, с опущенными руками. Виден был только его профиль — упрямый, острый.
— Она забрала всё, — сказал он, услышав мои шаги. Голос его глухо окликнулся от стен.
— Почему? — прошептала я. Комната была настолько пустой, что казалось неприличным говорить громко.
— Думаю, — он медленно повернулся ко мне, — потому что больше не хочет прятать.
Мы стояли лицом к лицу в абсолютной, звенящей белизне. Не было ни запахов, ни теней. Только мы и что-то, невидимое, но очень древнее, шевелящееся в воздухе, как огромный невидимый зверь.
— Они заберут у нас это, — сказала я, сама не до конца понимая, что обозначает слово «это». — Найдут способ.
— Может быть, — он кивнул. — Но есть вещи, которые нельзя просто забрать. Их можно… затереть, спрятать, заклинать до второго пришествия Мерлина. Но если они были…
Он подошёл ближе. Теперь я видела, что у него дрожат пальцы.
— Я боюсь, — признался он, и слова прозвучали в пустоте, как отголоски заклинаний. — Не за себя. За нас. И именно поэтому я хочу, чтобы ты…
Он замолчал. В воздухе что-то сгущалось, стягивалось, как узел.
— Что? — прошептала я.
— Чтобы ты помнила, — выдохнул он. — Даже если всё остальное… исчезнет. Чтобы хотя бы один человек в нашем чертовом родовом ряду мог сказать: "Я был там, я чувствовал".
В тот момент я ещё не понимала, что он собирается сделать. Может, он сам до конца не понимал. Только когда он поднял руку, и в воздухе вокруг его пальцев вспыхнули тонкие золотые нити, я внезапно почувствовала запах — резкий, металлический, обжигающий. Запах той самой клятвы.
— Даниил, не смей! — крикнула я, но голос утонул в гуле старой магии.
— Я не нарушаю клятву, — спокойно, почти ритуально произнёс он. — Я меняю адресата.
Слова летели, как факелы, и врезались в невидимые стены Комнаты. Золотые нити вокруг его руки вспыхнули ярче, вытягиваясь в воздух, тянутся ко мне.
— Всё, что должно быть разрушено клятвой, — продолжил он, — будет разрушено…
Нити коснулись моей груди, чуть выше сердца. Там вспыхнуло горячо, как от ожога, но боль смешалась с чем-то ещё — с ледяной ясностью.
— …но разрушит не связь между фамилиями, — договорил он, — а память клятвы о нас.
Белый свет взорвался.
Я не помню, падала ли я. Не помню, кричала ли. Всё, что осталось в обрывках — его лицо совсем близко, искажённое усилием, и ощущение, будто через меня проходит волна, вымывая всё лишнее, но вопреки намерению цепляясь за самое ценное.
А потом — тьма.
Тот, кого не существует
Я очнулась в Медпункте.
Запах зелий, чистых простыней, стерильной травы. Свет из окна бил по глазам, заставляя щуриться. Голова гудела, как после сильного удара.
— Тише, не вставай, — мягкий голос медсестры, её прохладные пальцы на моём лбу. — Ты потеряла сознание в коридоре. Говорят, споткнулась на лестнице.
— В коридоре? — язык будто бы налился свинцом.
— Да. Твоя подруга из твоего факультета тебя сюда привела. Ударилась не сильно, но… магическое истощение. Ты не слишком увлекаешься заклинаниями для продвинутого уровня?
Я молча смотрела в потолок. В голове было пусто. Пугающе пусто. Как будто кто-то прошёлся по моей памяти огромной резинкой, стирая целые пласты, но оставляя обрывки, не соединяющиеся друг с другом.
— А… — я сглотнула, — кто ещё… был?
— Никого, — ответила медсестра. — Тебя нашли одну.
Слово "одну" отозвалось в груди холодом.
— А… — я попыталась подобрать имя, которое крутилось на краю сознания, как ненаписанное слово. Ничего. Только пустота. — В школе есть… ещё кто-нибудь из…
Я хотела сказать: "из нашей старой врагующей семьи", но язык остановился.
— Из твоего рода? — медсестра улыбнулась. — Нет, Элеонора, ты ведь знаешь. Ты у Морвеннов сейчас единственная, кто учится здесь. Гордишься?
Слово "гордиться" вдруг вызвало отвращение. Вместо ответа я отвернулась к окну.
В следующие дни всё выглядело одновременно привычным и… чужим. Я ходила по тем же коридорам, сидела на тех же занятиях, ела за тем же столом. Но каждый раз, проходя мимо определённого участка стены на третьем этаже, я ощущала, как кожу покрывают мурашки. Там, где по идее должна была быть гладкая каменная кладка, мне чудилось… что-то ещё. Пульсация. Слабый шорох, как вздох.
— Что ты всё высматриваешь в этом месте? — спрашивали однокурсники. — Там нет ничего, кроме стены.
Я бы согласилась с ними, если бы не запах. Едва уловимый — дыма, старых книг и ещё чего-то, что вызывало ноющую тоску где-то под рёбрами.
Однажды ночью я не выдержала.
Коридоры были пусты, луна лила холодный свет через высокие окна. Я подошла к той самой стене и провела по ней пальцами. Камень был тёплым.
— Пустите, — прошептала я, не зная, к кому обращаюсь.
Камень под ладонью дрогнул. На секунду мне показалось, что он стал мягким, как воск. Перед глазами вспыхнуло что-то белое, ослепительное, и запах… знакомый запах дымного зелья, трав, старой бумаги… и ещё чего-то, чего я никак не могла назвать, но чего отчаянно не хватало все эти дни.
Комната встретила меня пустотой.
Та же гладкая белизна, тот же ровный свет. Только теперь в её центре не было никого.
Я прошла до середины, вслушиваясь. Тишина. Но не мёртвая — живая, наполненная непроговорёнными словами.
— Кто здесь был? — спросила я вслух.
Ответом был тихий шорох. Где-то над головой с потолка медленно опустилась… нить. Тонкая, золотая, едва видимая. Она повисла в воздухе прямо передо мной.
Я подняла руку, неосознанно. Пальцы сами потянулись к нити. Едва я коснулась её, меня накрыло.
Волна воспоминаний, запахов, голосов. Я увидела подземелье, клубы дыма, тонкое лицо над подгоревшим котлом. Услышала, как произносится: "Черников" — и как моё сердце сжимается. Почувствовала тёплый воздух Комнаты с котлами, шорох страниц, его смех над неудавшейся попыткой превратить отвар в серебристый пар.
Имя ударило в виски, как молния.
Даниил.
Всё обрушилось сразу. Пирс у озера, его признание, золотые нити клятвы, белый свет. И главное — то чувство, которое мы оба боялись назвать. То, ради чего он рискнул переписать саму магию рода.
Я стояла посреди Комнаты, зажатая между двумя реальностями. В одной никогда не существовало никакого Даниила Черникова, враждебного ребёнка древнего рода, который сидел со мной ночами и боялся за меня больше, чем за себя. В другой — он был, и каждый миг с ним был настолько живым, что от одного воспоминания хотелось смеяться и плакать одновременно.
Комната молча наблюдала.
— Они… стёрли его? — голос сорвался, я и сама не ожидала, что скажу это вслух.
В ответ золотая нить дрогнула. Из потолка опустились ещё две, сплетаясь с первой. В воздухе передо мной медленно вырисовалась картина: две фамильные эмблемы, переплетённые тонкой линией. Линия вспыхнула и тут же… растворилась. Как акварель под дождём.
— Память клятвы о нас… — прошептала я, вспоминая его слова. — Он… перенаправил её. На себя.
Смысл обрушился тяжелее, чем воспоминания.
Клятва не могла уничтожить связь между нашими родами, если мы её не заключали. Она искала любой след нарушения — любую попытку сблизиться. И когда нашлась наша… он предложил ей выкуп. Своё существование в общей памяти.
В домах Морвеннов и Черниковых, в старых книгах, на портретах, в рассказах у каминов — больше не было ни одного упоминания о мальчике с тонкими пальцами, который перепутал корни в подземелье и нашёл Комнату вместе со мной. Для наших родов он никогда не рождался.
Но не для меня.
Комната мягко подталкивала меня, в буквальном смысле — пол под ногами чуть вибрировал, направляя к центральной точке. Там, где когда-то стояли котлы, кресла, столы, теперь не было ничего. Только пустое место, в котором пульсировала невидимая магия.
— Почему я помню? — спросила я уже не у Комнаты, а у него, у того, кто рискнул сыграть с клятвой.
И в ответ… я услышала голос.
Не внешний. Внутренний. Где-то в самом глубоком, ещё не тронутом клятвами слое сознания.
«Потому что ты — та, на кого я её перенаправил», — прозвучало тихо, но отчётливо. — «Я не мог оставить всё пустым. Клятва требовала разрушения. Я дал ей разрушить своё имя в их глазах, но спрятал его в твоих».
Я зажмурилась. Слёзы сами выступили, горячие, жгучие. Они падали на белый пол Комнаты и тут же впитывались, не оставляя следов.
— Это… слишком, — прошептала я. — Слишком много для одного человека — хранить память против магии целых родов.
«Ты не одна», — ответил тот же голос. В нём была знакомая, упрямая улыбка. — «У тебя есть Хогвартс. И Комната, которая дышит. Они помнят всё, что мы сделали. Просто большинству это знать не нужно».
Я опустилась на колени. Белый пол был тёплым. Пальцы бессмысленно водили по нему узоры. Вдруг рука сама собой вывела букву «Д». Она засветилась на секунду золотым и исчезла.
— Где ты? — прошептала я в пустоту.
Ответа не было. Только лёгкое, почти физическое ощущение — как если бы кто-то стоял прямо за спиной, не касаясь, но согревая своим присутствием.
«Не там, где ищут родовые книги, — отозвался в глубине тот же голос. — Но там, где ты вспомнишь и улыбнёшься. В каждом дыме над котлом. В каждом шаге по этому коридору. В каждом "Элеонора", сказанном не фамилией».
Комната тихо вздохнула. Белый свет стал чуть мягче. В воздухе появился тот самый запах, с которого всё началось: густой дым с привкусом трав и железа. Я вдруг ясно поняла, что он был запахом не ошибки, а начала.
Я поднялась, провела рукой по воздуху, где когда-то была невидимая стена. Ничего. Пустота. Но эта пустота была другой — наполненной.
— Ты разрушил клятву ценой собственного… — я не смогла договорить.
«Я разрушил только её право рассказывать нашу историю без нас», — поправил он.
Я вышла из Комнаты под утро. Хогвартс встречал меня привычным дыханием — запахами хлеба из кухни, влажного камня, просыпающихся портретов. На лестнице я столкнулась с отцом.
— Ты где была? — его голос был суровым, но в нём сквозила тревога. — Мы с матерью переживали. Ты не пришла на вчерашний ужин.
Я посмотрела ему в глаза и неожиданно ясно увидела его — не как "главу рода", "наследника клятв", а как человека, который тоже когда-то был подростком, сидел в этом замке, слушал рассказы о "них" и, возможно, тоже хотел задать свой, запрещённый вопрос.
— Я была… с другом, — спокойно ответила я.
Он нахмурился.
— С кем? Ты же знаешь, что сейчас особенно важно выбирать окружение…
— С другом, — повторила я, чуть улыбнувшись. — Не с фамилией. С человеком.
В его взгляде промелькнуло что-то — вспышка непонимания, за которой дрогнуло… сомнение? Я не была уверена. Но в этот миг я поняла: клятва треснула не только там, в белой Комнате. Она дала трещину и здесь, в чёрных зрачках того, кто всю жизнь жил её словами.
Я прошла мимо, чувствуя на спине его взгляд. В груди было странное ощущение — тяжёлое и лёгкое одновременно. Я знала: мне предстоит жизнь, в которой я буду единственной, кто помнит мальчика, которого больше не существует ни в одном родословном древе. Я буду той, кто хранит его имя как контрзаклинание от старых историй.
И в этом был ужас. И в этом была свобода.
В тот же день, перед ужином, я остановилась в коридоре третьего этажа. Каменная стена казалась обычной, но я знала: стоит мне подумать о запахе дыма, о белом свете, о тёплом полу — и Комната отзовётся.
Я закрыла глаза, вдохнула и прошептала:
— Я помню, Даниил.
Где-то глубоко, в самом сердце замка, что-то тихо, но отчётливо щёлкнуло. Как первый разрыв льда на реке весной. И я поняла: старый мир треснул чуть-чуть сильнее.
То, что началось с подгоревшего зелья и запаха дыма, продолжилось там, где древнейшая магия дала сбой. Между двумя фамилиями, веками стоявшими друг напротив друга, появилась невидимая трещина, в которую просочилось наше «мы».
Там, где когда-то была клятва вражды, теперь жила другая — моя: не дать им забыть о том, чего они официально никогда не узнают.
И всякий раз, когда на уроке Зельеварения над котлами поднимается дым, я невольно улыбаюсь. Потому что знаю: где-то в этом дыме мелькает профиль того, кого, по всем законам родовой магии, не существует.

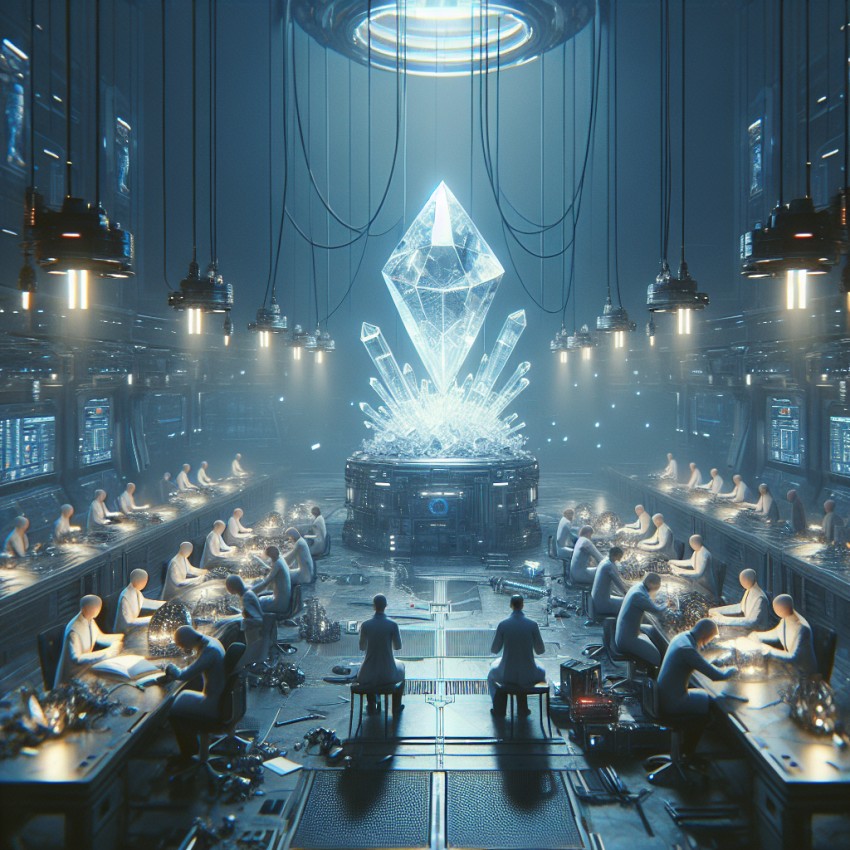





Обсудить