Шторм ушёл так же внезапно, как и пришёл — будто кто-то огромной ладонью смахнул с неба свинцовую хмурую складку. Волны ещё дышали тяжело, как выбившаяся из сил скотина, но хребет бури был сломан. Только в ушах всё равно звенело, и мир казался слегка перекошенным, как будто его ненадолго опрокинули и забыли поставить прямо.
Я лежал на мокрой палубе лицом к небу и впервые за ночь различил цвета. Не просто серое на чёрном, а тусклый кобальт утреннего неба, грязные зелёные подтеки по мачте, рыжие волоски соли на досках. Воздух пах железом воды и чем-то горячим, живым, пробивающимся сквозь усталость. Грудь щемило, но не от боли — от того, что я всё ещё мог чувствовать.
— Лёва, вставай, — голос боцмана Степана скользнул где-то сбоку, как верёвка по борту. — Глаза разуй. Смотри.
Я поднялся, заскользив ладонями по засиженным водой доскам, ухватился за фальшборт. За ночь, казалось, море должно было опустеть, сгладиться. Но за парой последних разбитых валов горизонт вдруг оборвался.
Там, где ещё вечером было только чёрное безбрежье, теперь лежала тёмная форма — не силуэт облака, не край другой бури. Что-то тяжёлое, глухое, обросшее туманом, как небритостью.
— Остров, — сказал кто-то за спиной, и в этом слове прозвенела непривычная для нас надежда. — Земля.
Я прищурился. Остров был мутен, словно его нарисовали на мокром стекле и краска поползла. Очертания края то заострялись, то обмягчались. Казалось, он дышит — не вверх-вниз, как грудь, а в стороны, растекаясь по горизонту.
— Так не бывает, — тихо сказал я, но волна ударила в борт, залила мне сапоги, и слова растворились в холодной пене.
Шкипер Пантелей стоял возле штурвала, белый, как парус в штиль. Его левый рукав был пуст — ещё вчера его забрала верёвка, сорвавшаяся в темноте. Теперь пеньковый культяпка был аккуратно подвязан к локтю. Он молчал, смотрел только на остров.
— Ветер нам в помощь, — выдохнул он, словно нащупал внутри невидимую кнопку. — Идём к нему. Куда ещё? Воды на борт — кот наплакал, мачта цела… Бог подкинул землю — не плюют в ладонь.
Мы все — кто мог ещё стоять — разом посмотрели туда, где в серой дрожащей дымке проступала береговая линия. Мне показалось, что она улыбнулась. Широко и не по-людски.
Я сжал фальшборт так, что занемели пальцы.
Берег, который не помнили карты
Мы шли к нему почти два часа. Море устало, волны притихли до тяжёлых вздохов, а остров тем временем как будто стягивался. Края его подтягивались к центру, проявляя заливы, выступы, бухты. Высокая скала слева, низкий песчаный косогор справа. По мере приближения картинка становилась чётче, но чувство неестественности только густело.
Я привык к тому, что земля стоит. Как стол, как наковальня. А здесь каждый раз, когда отводил взгляд на миг и снова смотрел, берег был словно чуть другим. Не так лежала коса, по-другому ломалась линия гребня.
— Глаза морочит, — пробормотал Степан, стоящий рядом. — С непривычки.
Но в его голосе звенело неуверенное «или». Мы все были людьми моря, знали причуды света, линий, миражей. И всё же это было иным. Не обманом, а… как если бы кто-то переставлял декорации, пока зритель моргает.
— На картах его нет, — подал голос старик-Демьян, штурман, вытаскивая из-под куртки измятый, мокрый лист. — Тут пусто. Открытое море. Мы в середине ничего.
Он ткнул пальцем в бледное пятно бумаги, где не было ни одной точки суши.
— А тут не пусто, — заметил Пантелей. — Так что к чёрту карты. Бросаем якорь у того темного мыса. Я хочу ноги на землю поставить. Хватит воды.
Я не сказал вслух, что ошибка могла быть не в карте.
Когда якорь пошёл в воду, я услышал, как металл поёт, протягивая через толщу моря долгую дрожащую ноту. Где-то глубоко под нами эту ноту подхватило что-то ещё. Низко, гулко, почти неслышно.
Берег приблизился, стал различимым. Тёмно-серый песок с голубоватыми прожилками. Камни — не такие, как я видел прежде: гладкие, словно протёртые руками до тусклого блеска, с тонкими белыми нитями трещин, похожими на сеть вен под кожей. Выше поднималась полоса зелени — густые кусты с мясистыми листьями, неведомые деревца с толстыми стволами, пахнущие горько и сладко одновременно.
Мы сошли на берег молча. Под ногами мягко пружинило, как по влажному мху, хотя песок выглядел сухим. Я нагнулся, зачерпнул пригоршню — и вздрогнул: зёрна казались живыми. Они чуть подрагивали в ладони, как будто внутри них билось крохотное сердце.
— Лёва? — Степан смотрел на меня вполглаза. — Вид у тебя, как у человека, впервые увидевшего землю.
— А мы её впервые видим, — ответил я. — Такую.
Поверхность пляжа была странно чистой. Ни выброшенных водорослей, ни привычного мусора, ни острых раковин. Только редкие гладкие камушки и птицы, похожие на перепёлок, но с кожистыми веками, как у тюленей. Они молча смотрели на нас и не улетали, даже когда мы проходили почти вплотную.
— Молчаливые, — буркнул Демьян. — На моём веку не встречал птиц, чтоб вот так — без крика.
Но меня больше всего занимало другое. Я чувствовал под ступнями ритм. Сначала думал — это моя собственная кровь стучит после качки. Но чем дальше мы заходили вглубь острова, тем отчётливее этот ритм становился чужим. Медленный, но мощный, дрожащий где-то в основании, под слоями песка, камня и корней. Словно под всем этим лежало сердце — огромное, размером с наш корабль, и неторопливо гнало по невидимым жилам тёплую воду.
Я не стал никому об этом говорить. Моряки не любят, когда землю сравнивают с живым телом. В живое можно вонзить нож. Земля должна быть твёрдой и мёртвой. Только тогда по ней спокойно ходить.
Карта, которой не удавалось быть картой
К полудню небо очистилось окончательно. Солнце било в макушку, и остров казался менее враждебным. Мы разбросали вещи по узкому участку берега, натянули тент, вытащили из трюма бочку пресной воды. Степан распорядился развести небольшой костёр из сухих коряг, выброшенных повыше по линии прибоя.
— До вечера поживём тут, — сказал он. — Поймём, что за место. А там видно будет.
Пантелей согласился кивком. Я же, пока остальные суетились, снова вслушался в остров. Ритм не исчез. Он будто чуть сместился, ударяя теперь в левую пятку сильнее, чем в правую.
— Лёва, ты ж рисуешь, — окликнул меня Демьян. — Возьми мой блокнот. Попробуем очертить берег. Пока солнце высоко.
Рисовать я и вправду умел. Сначала это была привычка — переносить на бумагу то, что не укладывалось в слова. Потом оказалось полезным в море: набросать береговую линию, запомнить странную скалу, необычный залив. Сейчас же рука сама потянулась к карандашу.
Я поднялся на небольшое возвышение — низкий холм из бледно-серых плит. С него было видно наш участок побережья и уходящую вправо дугу залива, где вода темнела, обещая глубину. Слева берег поднимался к крутым утёсам.
Я стал проводить линии. Мягкий карандаш послушно скользил, повторяя изгибы косы, выступы камней, кривую кромки прибоя. Закончив, я отступил на шаг, чтобы взглянуть на рисунок со стороны. Всё было ровно, узнаваемо.
— Ну-ка, — Демьян заглянул мне через плечо. — Глаз у тебя верный. Это тебе не наши кресала.
Мы оставили рисунок на развёрнутой странице и пошли к костру. Рыба, пойманная парой удачливых товарищей в прибрежной заводи, уже трещала на вертеле, пахнув жиром и дымом. Остальные смеялись, спорили, ругались по привычке. Остров как будто чуть отступил, притих, дал нам передышку.
Только когда солнце клонилось к закату, а тень от наших фигур удлинилась до неприличия, я снова поднялся на холм. Меня тянуло проверить собственный рисунок. Убедиться, что мир всё ещё совпадает с тем, как я его запомнил.
На секунду мне показалось, что я заблудился. С того же холма вид открывался иной. Залив справа превратился в узкий глубокий залом, куда вода входила жёстким клином. Слева вместо постепенного подъёма к утёсам обнажилась почти отвесная стена, в которой тёмными дырками зияли углубления — как глазницы гигантской черепахи.
Я стоял и ощущал, как кожа на спине ползёт вверх. Всё вокруг было тем же — песок, корабль на спокойной воде, наши люди у костра. И всё же берег… изменился.
Я вытащил блокнот. Рисунок был прежним. Мягкая, плавная дуга. Никаких острых изломов.
— Степан! — позвал я, не сводя взгляда с края, где кромка воды теперь уходила в узкий темный карман. — Иди.
Он поднялся без спешки, приглаживая ус. Остановился рядом, цокнул языком.
— Ты ему другой берег нарисовал, что ли? — спросил он, чуть наклонив голову. — Твой-то тут не сходится.
— Я рисовал с этого места. Час назад.
— Час назад прилив был другой, — вмешался Демьян. — Вода гуляет, формы меняются. Чего тут удивительного? Ты сам на море не первый год.
Я прикусил губу. Прилив, отлив — да. Но вода могла лишь прикрыть или обнажить, а не вытянуть песок в новую линию, не выгрызть уступ там, где его не было.
— Ты чего такой белый? — Степан ткнул меня локтем. — Мы живы, целы, сухие. Остров — он и есть остров. Ты просто устал. Отоспишься — и берег станет тем же.
Я хотел ему верить. Но под ногами, под тонкой кожей земли, что-то продолжало стучать, слишком размеренно, чтобы я мог принять это за игру прилива.
Прилив, который дышал
Ночью небо рассыпалось звёздами. Они здесь казались ближе, словно тросы, за которые можно ухватиться и подтянуть купол над собой, чтобы он не придавил. Воздух охладился, шевельнул ткань тента. Костёр практически догорел, оставив вместо себя аромат углей и слабое красное свечение.
Остальные спали — кто, уткнувшись в мешок, кто, прямо на песке. Я не мог. Каждый раз, как проваливался в дремоту, мне казалось, что земля подо мной меняет угол наклона. Словно огромная грудь, на которой я лежу, то поднимается, то опускается. Я вслушивался — и различал: не ветер, не шорох кустов. Тяжёлое, густое дыхание, идущее снизу.
К полуночи море отхлынуло. Это чувствовалось, как отступление железной стенки, где-то в темноте. Воздух стал чуть суше. Я вышел к кромке берега и застыл.
Пляж перед нами растянулся дальше, чем днём. Но дело было не в этом. Линия прибоя обогнула низкий вал, которого я раньше не видел, и ушла влево, формируя новую бухточку. Там, где днём была ровная полоса, теперь торчал ряд каменных зубцов — словно остров выдавил их наружу, пользуясь тем, что вода отступила.
Я шёл вдоль моря, босыми ступнями чувствуя холод влажного песка. С каждым шагом землю подо мной слегка качало, но не в стороны, как на палубе, а вниз-вверх. Ритм совпадал с глухим биением в глубине.
Где-то вдали крикнула ночная птица. Этот одинокий звук оказался таким тонким и жалким на фоне безмолвного моря, что мне стало неловко за неё.
Я дошёл до места, где песок переходил в каменные плиты, и остановился. Передо мной открылась картина, чуждая и знакомая одновременно. Тёмные глыбы, поросшие мокрым мхом, нависали дугой, образуя подобие арки. За ней темнела расщелина, из которой тянуло тёплым воздухом.
Днём этого не было. Я бы запомнил. Я чувствовал, как волосы на затылке встают дыбом, хотя вокруг был полный штиль.
Из расщелины доносился шум. Не свист ветра, не рокот прибоя. Тяжёлое, влажное сопение. Я сделал шаг ближе. Внутри было темно, но на границе темноты что-то блестело — мерцало, отливая зелёным, как чешуя рыб.
В какой-то миг мне показалось, что я стою у края гигантского рта. Камни — это губы. Тьма — глотка. А этот тёплый запах — дыхание.
Я отступил, едва не споткнувшись о собственную тень.
— Не буди его, — прошептал чей-то голос за моей спиной.
Я резко обернулся. Никого. Тент с нашими спящими людьми был метрах в двадцати. Там никто не шевелился. Я снова перевёл взгляд на расщелину. Она уже не казалась такой живой. Камни — просто камни. Темнота — просто тьма.
«Не спи стоя», — сказал я себе и вернулся к костру. Но до рассвета уже не сомкнул глаз.
Остров под кожей каждого
Утром остров был другим.
Это было не догадкой, не ощущением. Это можно было потрогать. Там, где мы вчера разложили свои вещи, песок прорезали мелкие ручейки, несущие прозрачную воду из глубины острова. Они образовали россыпь крошечных озёр, в которых отражалось небо. Наш тент стоял криво, один из колышков оказался проваленным в мягкую дрожащую почву.
— Проваливается, — возмущался Петька, юнга, вытаскивая колышек. — Я же вчера его намертво вбил!
— Земля-девка, — хмыкнул Степан. — Вечно под тобой вертится.
Он пытался шутить. Все пытались. Но глаза у людей стали чуть шире, чем обычно. Они реже моргали, чаще оглядывались через плечо.
После завтрака Пантелей приказал сходить вглубь — не всем, по трое. Он, Демьян и я. Остальные должны были оставаться у берега, следить за кораблём, за костром, за приливом.
Мы пошли по тропе, которая накануне ещё не существовала. Узкая дорожка, вытертая кем-то до гладкого камня, вилась между кустами. Листья касались плеч, оставляя на коже липкий сладкий сок. Пахло пряно, терпко, немного похоже на смолу и мёд разом.
— Как будто тут жили, — тихо сказал Демьян, оглядываясь. — Или ходят часто.
— Кто? — спросил я.
Он пожал плечами. Ответов у штурмана не было.
Чем дальше мы уходили от моря, тем сильнее смещался ритм под ногами. Теперь удары шли быстрее, как если бы существо — мысль о существе уже не казалась такой нелепой — немного волновалось. На границе слуха хронически звучал низкий гул, похожий на отдалённый гром, застывший в одном месте.
Тропа вывела нас на поляну. В центре её лежал камень, выше человеческого роста, плоский сверху, словно стол. Его поверхность была покрыта мелкими бороздками, выцарапанными чем-то острым. Я подошёл, провёл пальцами. Бороздки складывались в знаки. Не буквы, не цифры. Но в них чувствовался порядок, повтор.
— Похоже на надпись, — сказал я. — Только не нашей.
— Не трогай, — резко бросил Пантелей. Его голос был хриплым, будто он простудился за ночь. — Мы тут гости, а не хозяева. Мало ли что это значит.
Я всё равно не успел бы прочитать, даже если бы очень захотел. Знаки ускользали от взгляда. Стоило задержать на них глаза, как они начинали чуть расплываться, смещаться, будто не желали быть понятыми.
— Пойдём назад, — сказал Демьян. — Мне это место не нравится. Тут воздух… как в трюме, перед тем как там что-то взорвётся.
Мы почти дошли до берега, когда остров сделал ещё один трюк. Тропа, по которой мы пришли, упёрлась в стену густых зарослей. Там, где полчаса назад был проход, теперь тесно переплелись ветви, словно кто-то зашил дыру грубыми стежками.
— Мы шли тут, — упрямо сказал Пантелей. — Я б не спутал.
Я протянул руку, попробовал раздвинуть листву. В ответ кусты дрогнули, и с них разом осыпались крошечные белые цветки, пахнущие сладко и немного протухло. На секунду мне показалось, что этот запах я знаю. Пахло так в домах, где недавно выносили тело.
— Обойдём, — предложил я, пересиливая тошноту. — Остров маленький. Не потеряемся.
Мы обошли. Но каждый новый поворот подсовывал нам иной рисунок. Тут камень, которого не было, там — ручей, которого я бы точно запомнил. Солнце ползло по небу, а мы ходили кругами, всё время возвращаясь к одной и той же приметной коряге, похожей на высохшую руку.
— Он нас крутит, — прохрипел Демьян, срывая с себя мокрую от пота рубаху. — Как воронка. Только не видно.
Я ощутил странную ясность под языком, словно там растаял кусочек льда. Слова сами сложились:
— Он двигается, а не мы. Мы идём по прямой, но земля под нами поворачивается.
Пантелей поднял на меня глаза. В них не было привычного моряцкого скепсиса. Только усталость.
— Земля не ходит, — сказал он, но голос прозвучал без опоры. — Так не бывает.
— Мы и острова в середине ничего не ждали, — ответил я. — Но он есть. Может, здесь… бывает всё, что угодно.
Нас выкинуло к морю внезапно. Мы проломили последние кусты — и перед нами развернулся пляж. Но не наш. Корабля не было. Ни тента, ни костра. Только чистый песок и менее глубокая линия прибоя.
— Мы что, вышли с другой стороны? — Демьян растерянно огляделся. — Остров же… как монета. Оборотная сторона.
Я посмотрел вправо. Там вдалеке, сквозь тонкий утренний туман, торчали знакомые мачты. Просто берег сделал петлю. Или петлю сделал кто-то, кто этим берегом распоряжался.
Пока мы возвращались, песок под ногами стал плотнее, ритм в глубине выровнялся. Казалось, остров немного успокоился, наигравшись с нами.
Собственные карты каждого
Вечером мы разложили перед собой всё, что могли назвать «знанием» об этом месте. Мой кривой рисунок, слова, ощущения. У костра сидели по кругу — Пантелей, Степан, Демьян, я, Петька и ещё трое старших матросов. Лица блестели от пота и бликов огня, глаза были провалами.
— Он меняется с водой, — говорил Демьян, царапая палкой по песку. — Смотри: вот высокий прилив, вот низкий. Между ними — как дыхание. И каждый его выдох — новый рисунок берега.
— Ты хочешь сказать, что это… живое? — Петька сглотнул, глядя то на тьму за кругом света, то на штурмана.
— Я хочу сказать, что нам лучше вести себя так, как будто оно живое, — вздохнул Степан. — На всякий случай. Мало ли что живое может сделать с теми, кто на нём ходит, как по палубе.
В паузу между словами врывалось море. Оно вздыхало где-то совсем рядом, под чернотой. Я чувствовал, как песок подо мной еле заметно пульсирует.
— А вы замечали… — начал я, и мой голос прозвучал хрипло, как если бы я не произносил слов несколько лет. — Что каждый видит что-то своё?
— В смысле? — насторожился Пантелей.
— Там, — я ткнул палкой в сторону внутренней части острова, — где тропа. Вы, капитан, вчера говорили… что запах там как дома. Как в вашей деревне, где щи на плите.
Пантелей промолчал, но щёки его чуть дрогнули. Я продолжил:
— А мне там пахло по-другому. Как в типографии моего отца. Бумага, краска… И камни там…»
Я запнулся. Как объяснить, что я видел на краткий миг тень старого сарая, которого здесь быть не могло, и кружащимся вокруг него котёнка детства, которого я похоронил много лет назад за городом?
— У меня там были вспышки, — неожиданно сказал один из матросов, Фома. Человек немногословный, обычно молчаливый. — Как будто мелькает… порт наш. Трубы, кран, жена стоит на пирсе. Я аж рукой махнул. А там куст был.
— Остров подсовывает каждому своё, — заключил Степан. — Как будто листает в нас страницы.
— Зачем? — Петька звучал почти жалобно.
— Может, он так знакомится, — предположил я. — Смотрит, из чего мы сделаны.
Я не добавил, что иногда мне казалось: это мы — страницы, а он нас читает, переворачивает, иногда загибает уголки там, где что-то заинтересовало.
Последний прилив
Третий день принёс спокойствие — обманчивое, вязкое. Мы выработали примитивные правила: не уходить одному, не пытаться отмечать на песке край прибоя (линия всё равно смывалась и возвращалась в ином месте), не смотреть слишком долго на те странные знаки на центральном камне.
Я всё больше времени проводил с блокнотом. Рисовал фрагменты берега, клочья растительности, странных молчаливых птиц. Каждый новый прилив делал прежние рисунки бесполезными. Я перечёркивал страницы, но всё равно продолжал. Было в этом отчаянное упрямство человека, который пытается поймать ладонями воду.
К полудню небо потемнело, хотя никаких облаков не приходило. Просто свет стал гуще, тяжелее. Море затянуло оловом. В воздухе появилась дрожь — как перед грозой, только сухая.
— Прилив будет сильный, — сказал Демьян, скосив глаза на линию горизонта. — Чую костями.
Он не ошибся. Вода пошла вверх быстро, жадно, заглатывая песок, на котором ещё утром мы развешивали мокрые рубахи. Сначала привычно обняла камни у кромки, потом взялась выше, щедро облизывая их, словно язык. Мы отвели корабль подальше, якорь перенесли глубже.
К вечеру остров словно начал сжиматься. Берег, по которому мы гуляли, узнался с трудом. Бухты смыкались, вырастали новые выступы. Вода не просто поднималась — она, казалось, сама переставляла куски суши, как разозлённый ребёнок — игрушки.
У меня закладывало уши, как при погружении. Я чувствовал давление не воды — чего-то иного, сквозящего со всех сторон.
— Он… задыхается, — вырвалось у меня.
— Кто? — Петька едва держался на ногах, то ли от усталости, то ли от страха.
Я посмотрел вниз. Песок под моими ступнями больше не был песком. Если вглядеться, можно было заметить медленное движение. Мельчайшие крупинки перетекали одна в другую, словно кровь в капиллярах.
— Остров, — сказал я. — Ему тесно. Слишком много воды, слишком много нас.
Ритм в глубине участился. Это уже был не размеренный стук сердца спящего животного. Скорее, сбивчивое биение того, кто просыпается, не понимая, кто залез к нему на грудь.
— На корабль, — приказал Пантелей, и в его голосе впервые за всё время проступила паника. — Все на корабль! Сейчас не до земляных игр.
Мы бросали вещи наспех, хватая самое нужное, остальное оставляя костру и песку. Я подбирал блокнот, уже представляя, как нарисую этот последний прилив — линию, проглатывающую линии.
Когда мы отошли от берега, качка была странно ровной, как будто нас не толкали волны, а легонько перекатывало по широкой спине. Остров за кормой сокращался. Но не потому, что мы отдалялись. Он… сворачивался.
Линия его берега закручивалась внутрь, как раковина. Бухты смыкались, утёсы сгибались, падая, но не ломаясь. В какой-то момент я увидел, как одна из скал просто растворилась, как кусок льда в горячей воде. На её месте вспухла гладкая серо-синяя поверхность.
— Это не камень, — прошептал кто-то.
Да, это не был камень. Это была кожа. Гладкая, плотная, с еле заметным узором, напоминающим те самые знаки на центральном камне. Кожа чего-то, что решило перестать притворяться островом.
Море вокруг нас забурлило. Волны пошли не от ветра, а изнутри, от центра уходящего острова. Воздух наполнился низким гулом, который невозможно было больше игнорировать. Он дрожал в зубах, в рёбрах, в пальцах.
— Держаться! — крикнул Степан, вцепившись в леера.
Корабль качнуло, но не перевернуло. Что-то огромное медленно поднималось из глубины. То, что мы считали землёй, было лишь выжатым на поверхность куском его тела.
Оно вспухало, отбрасывая воду. Гладкая спина, на которой ещё минуту назад лежали наши одеяла, выгнулась дугой. По ней прокатились волны мышечного напряжения. Тёмные пятна, принятые нами за скалы, открылись — и я увидел, что это глаза. Много глаз. Одни закрытые, другие приоткрытые, дрожащие от света.
Я сжался у фальшборта, чувствуя, как собственное сердце отчаянно пытается догнать этот гигантский ритм.
Существо было слишком велико, чтобы его охватил взгляд. Мы видели лишь фрагменты — спину, покрытую узорами, напоминающими и береговые линии, и наши человеческие вены; бок, над которым вздымались грибообразные выросты, похожие на пни деревьев, и который вчера был нашим внутренним лесом; огромные отверстия, из которых вырывалась вода — и, вероятно, наш ночной тёплый ветер.
— Это… — Пантелей не смог найти слова.
— Оно, — сказал я. — Мы были на нём. Мы были… внутри него.
Глаза существа на миг открылись шире. Я не знал, может ли такая тварь воспринимать нас как отдельных. Но в этот момент мне показалось, что один из этих глаз — самый близкий к надводной глади — посмотрел прямо на наш маленький, дрожащий корабль.
В этом взгляде не было злобы. Ни любопытства. Что-то вроде удивления. Как если бы человек обнаружил на своей руке муравьёв.
Вода вокруг взорвалась белой бахромой, когда существо, досыта глотнув воздуха, стало уходить в глубину. Остров сдулся окончательно. Линия берега стёрлась, как мел с доски.
Через минуту там, где была земля, снова было только море.
Тишина после карты
Мы стояли на палубе, не в силах вымолвить ни слова. Шум исчез. Ритм в глубине ушёл. Море стало таким же, как тысячи других морей до этого — пустым, однообразным, бессердечным.
— Никто нам не поверит, — сказал наконец Степан. — Скажут: заливали, пьянь.
— Не надо, чтобы верили, — тихо ответил Пантелей. — Надо, чтобы мы…
Он осёкся. Я последил за его взглядом и тоже замолчал.
У кромки воды, в той точке, где ещё недавно начинался пляж, что-то белело. Кусок дерева? Пенка? Мы молча смотрели, как волна бережно подталкивает это к нашему кораблю.
Это был лист бумаги.
Обыкновенный, сероватый, чуть размокший по краям. На нём проступали блеклые, но узнаваемые линии. Береговая линия. Наш вчерашний залив, скала слева, коса справа. Точно так, как я нарисовал в блокноте в первый день.
Только это был не мой лист. Мой блокнот был у меня под курткой, с промокшими, вспухшими от сырости страницами.
Я вытянул руку, поймал бумагу. Кожа под пальцами пошла мурашками. На обратной стороне кто-то неровными буквами написал:
«Вы — карта.»
Почерк был не мой, не кого-то из наших. Буквы плясали, будто их выводили рукой, не знакомой с нашим алфавитом и нашим представлением о прямой линии.
Я поднял голову. Море было пусто. Никаких всплесков, никаких глаз.
— Что там? — спросил Петька.
Я сжал лист, чувствуя, как мягкая влажная бумага поддаётся.
— Ничего, — ответил я. — Просто чья-то карта.
Я спрятал её в блокнот.
Шкипер дал команду ставить паруса. Корабль послушно развернулся носом к ветру. Мы уходили от того места, где мир на минуту перестал притворяться тем, к чему мы привыкли.
Вечером, когда горизонт за кормой уже размылся и остался лишь номер широты в памяти Демьяна, я сел в тени грот-мачты и перечитал ту странную надпись ещё раз.
«Вы — карта.»
Я вспомнил, как остров подсовывал каждому из нас его собственные картины — дом, порт, детские запахи. Как тропы шли по этим картинкам, совмещаясь, расходясь. Как существо под нами, возможно, протягивало через нас свои нервные нити, пытаясь понять, где оно само заканчивается.
А потом я вдруг понял кое-что ещё. И это знание ударило по голове сильнее любой волны.
У каждого из нас была своя линия берега. Свой внутренний остров, который менял очертания с каждым «приливом» — каждым страхом, каждой надеждой, каждым воспоминанием. Мы привыкли считать его твёрдым — «я такой», «мой характер», «моя жизнь». Но теперь я видел, как легко это всё перетекает.
Если существо использовало нас как карту, чтобы понять мир наверху, то кто — или что — использует нас, чтобы понять других? Возможно, те картинки, которые мы носим в себе, никогда не были только нашими. Нас читали с рождения. Нас листали.
Я оторвал взгляд от бумаги и посмотрел на своих — на Пантелея у штурвала, на Степана с его вечной ухмылкой, на Петьку, засыпавшего сидя. Каждый из них был листом. Каждый — береговой линией для чьего-то невидимого глаза.
И в этот момент, когда эта мысль наконец улеглась во мне, мир вокруг слегка качнулся. Не как от волны. И не как от похмелья. Совсем иначе — как если бы кто-то огромный и невидимый перевернул страницу.
Гул, которого не должно было быть, прошёл сквозь мачты, сквозь паруса, сквозь наши тела. Мгновение — и исчез. Остальные, казалось, ничего не заметили. Только Демьян поднял глаза к небу, нахмурился и снова уткнулся в свою навигационную книгу.
Я опустил взгляд на свои руки. На коже проступал тонкий соляной узор — причудливая линия, напоминающая очертания острова, который мы только что оставили за кормой.
И вдруг понял ещё одну вещь, самую последнюю, самую страшную.
Мы так и не нашли на карте море, в котором был тот остров.
Но, может быть, он и не был на нашей карте.
Может быть, это мы были на его.
А сейчас — всего лишь маленький штрих на полях, незначительная пометка внизу, чья строка только что закончилась и была перечёркнута чьей-то огромной, незримой рукой.






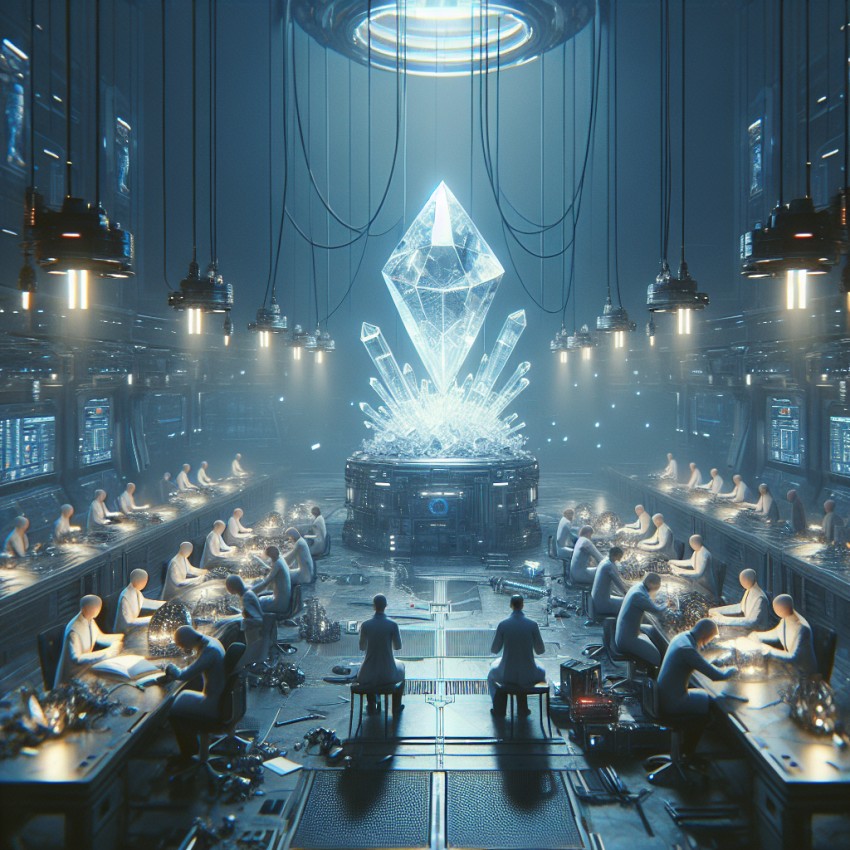
Обсудить